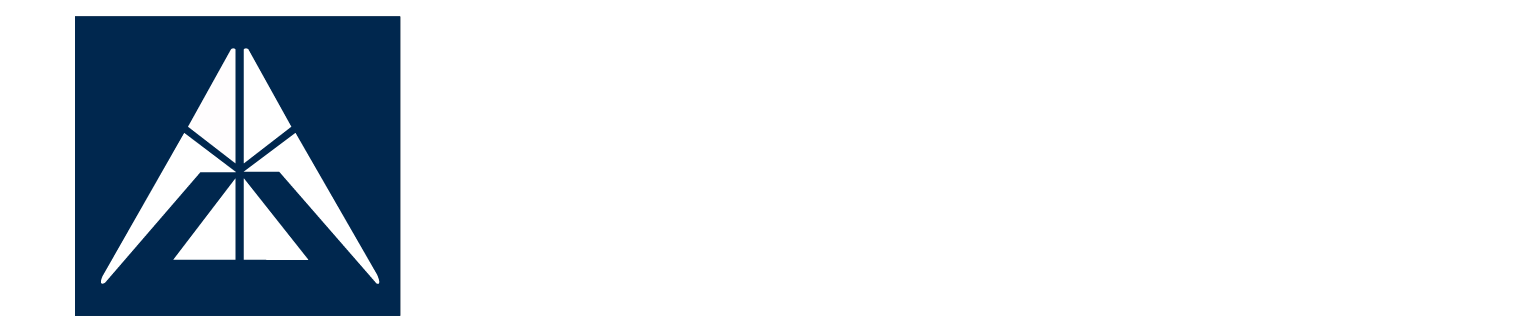Африканский континент сегодня стоит на распутье. Это перекрёсток не только бедности, сформированной ранами прошлого, дефицита управления или проблем с инфраструктурой, но и новая эра продовольственной небезопасности и экологической нестабильности, подпитываемая разрушительными последствиями климатического кризиса. На обширной территории от Восточной Африки до зоны Сахеля, от засушливых равнин Южной Африки до берегов Красного моря климатические засухи подрывают не только стабильность сельскохозяйственного производства, но и провоцируют массовые миграции, социальные взрывы и политические потрясения. За нынешней гуманитарной катастрофой стоят не только сокращающиеся объёмы осадков, но и несправедливые политики развития, хрупкие государственные структуры и глобальные несправедливости, наложившиеся на природные явления. Проблема голода в Африке больше не может рассматриваться исключительно как нехватка пищи, она стала отражением борьбы за долю и власть в глобальной системе. Поэтому вопрос касается не только «что есть» или «как производить», но и «кто будет кормить» и «кто останется голодным».
Согласно сообщению Reuters, от 50 до 60 миллионов человек в Западной и Центральной Африке сталкиваются с острой продовольственной небезопасностью.[1] Отмечается, что эта цифра напрямую связана не только с внезапными волнами засухи, наблюдаемыми на всём континенте, но и с конфликтами, экономическими кризисами и структурными проблемами в сельском хозяйстве. Особенно в Восточной Африке — в треугольнике Эфиопия-Сомали-Кения — пятый год подряд наблюдаются «сезоны без дождей», что означает для местного населения конец животноводства и условия жизни, вынуждающие к миграции. Аналогично, в странах Сахеля, таких как Буркина-Фасо, Нигер и Мали, борьба с терроризмом и климатические кризисы переплелись. Кроме того, невозможность предсказания климатических изменений в этих регионах снижает продуктивность сельского хозяйства и вызывает резкий рост цен на продукты. Снижение числа международных гуманитарных организаций и ограниченность доступа в регион делают ситуацию ещё более трагичной. В результате, Африка движется к продовольственной катастрофе в смысле как производства, так и доступа и устойчивости.
Климатическая уязвимость континента не ограничивается только ростом температуры или снижением осадков. Недостаток сельскохозяйственных технологий, слабая ирригационная инфраструктура, разрозненная структура пищевых цепочек и политическая нестабильность усугубляют последствия засух. Например, из-за продолжающейся гражданской войны в Судане плодородные земли долины Нила стали непригодны для использования, а инфраструктура региона разрушена. Подобные политические волнения, сопровождающие засуху в Мозамбике и Зимбабве, ускоряют миграцию сельского населения в города. Это, в свою очередь, увеличивает спрос на продовольствие в городах, делая рост цен неконтролируемым. Таким образом, существующий климатический режим Африки представляет собой не только экологическую, но и экономическую и социальную угрозу. Отсутствие перехода от централизованного планирования к гибким, основанным на местных потребностях, инклюзивным моделям ведения сельского хозяйства приводит к ежегодному нарастанию этой угрозы. Продовольственный кризис уже не является исключительно природной проблемой — он стал следствием плохого управления, недостатка предвидения и пробелов в международной солидарности.
В глобальном масштабе, возможно, самый яркий пример климатической несправедливости наблюдается в Африке. Несмотря на то что Африка ответственна лишь за 3% выбросов углерода в атмосферу, она подвергается самым тяжёлым ударам климатических изменений. Эта структурная несправедливость также обусловлена слабым представительством Африки в глобальных климатических переговорах и неравенством в доступе к проектам развития. Например, чтобы реализовать обязательства по сокращению выбросов углерода, взятые в рамках Парижского соглашения, африканским странам необходимо ежегодно около 300 миллиардов долларов зелёного финансирования. Однако до сих пор было предоставлено лишь около 15% от этой суммы.[2] Это препятствует развитию зелёного сельского хозяйства, устойчивой энергетики и климатоустойчивой инфраструктуры, а также усиливает зависимость от внешнего мира.
Обещания таких глобальных акторов, как Европейский Союз и США, часто остаются на уровне политической риторики и не приносят заметных результатов на практике. В то же время инвестиции Китая в зелёную энергетику в Африке в основном продиктованы стратегическими приоритетами и ориентированы в значительной степени на обеспечение сырья. Таким образом, континент оказывается зажатым между обещаниями Запада и интересами Востока, оставаясь объектом климатической справедливости, но не её субъектом.
На региональном уровне реакция Африки на кризис остаётся фрагментированной и несогласованной. В 2023 году Африканский союз провёл «Африканский климатический саммит» в Найроби, представив общую концепцию зелёного роста. Однако остаётся неясным, была ли эта концепция воспринята на местном уровне — органами самоуправления, общественными организациями и фермерами. Большинство стран увязали свои климатические стратегии с финансированием от иностранных доноров. Это приводит к приостановке проектов в кризисные периоды. Например, несмотря на цели по цифровизации сельского хозяйства и эффективному использованию климатических данных, Танзания и Уганда сталкиваются с техническими проблемами на местах, мешающими реализации этих проектов. Попытки стран ECOWAS в Западной Африке создать систему раннего предупреждения также остались безуспешными из-за нехватки данных и политических разногласий. Для успеха антикризисных мер Африки необходимо вовлечение не только центральных властей, но и местных сообществ, женщин, молодёжи и мелких производителей, а также разработка многоуровневой и инклюзивной модели климатического управления. В противном случае разрыв между риторикой и реализацией будет только расти.
Существует высокая вероятность того, что в ближайшие пять лет климатические кризисы, вызванные засухами, в Африке ещё более обострятся. Согласно докладам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) за 2022 год, в западных и восточных частях к югу от Сахары режим осадков будет серьёзно нарушен: сезон дождей начнётся с опозданием, сократится по продолжительности, а засушливые периоды могут увеличиться почти в два раза.[3] Это означает не только увеличение продолжительности засух, но и более частые экстремальные погодные явления, такие как наводнения, смерчи и ураганы. Предполагается, что в этом процессе возрастёт миграционное давление, произойдёт массовый отток населения из сельской местности в города, что, в свою очередь, приведёт к кризису урбанизации.
Ожидается, что вокруг таких мегаполисов, как Лагос, Найроби и Аддис-Абеба, возрастёт хаотичная урбанизация, начнёт рушиться инфраструктура, и появятся новые социальные конфликты. Также возможно, что радикальные группы смогут использовать продовольственные кризисы и усилят своё влияние в ряде регионов, особенно в Сахеле. Поэтому климатические проблемы следует рассматривать не только как экологические, но и как вопросы безопасности, политики и общественной стабильности. Каждое запоздалое решение климатического кризиса в Африке может привести к непоправимым последствиям не только для человеческих жизней, но и для будущих поколений континента.
Решения не должны сводиться исключительно к пожертвованиям, гуманитарной помощи или внешнему вмешательству. Африка должна создать собственные внутренние механизмы решения проблем, раскрывающие её потенциал. На первый план следует выдвигать методы агроэкологического земледелия, модели управления водными ресурсами, основанные на участии сообществ, и распространение засухоустойчивых семян. Также крайне важно создать новую систему аграрных знаний на основе синтеза университетов, исследовательских центров и местных знаний. Международное сообщество должно поддерживать эти местные инициативы и разрабатывать финансовые модели, соответствующие принципам климатической справедливости. Переход Африки от пассивной роли к активному участию в глобальном климатическом управлении пойдёт на пользу не только самому континенту, но и всему миру. Ведь нерешённый климатический кризис в Африке будет ощущаться в других регионах мира в виде экономической миграции, угроз безопасности и глобальных ценовых колебаний. Поэтому пришло время рассматривать Африку не как объект помощи, а как субъект решений.
В заключение, засуха и кризис голода в Африке — это ответственность не только народов континента, но и всей глобальной системы. Этот кризис — прямой результат не только климата, но и коллективных упущений, глобального неравенства и неустойчивых практик развития. Сегодня пересохший колодец в Сомали может повлиять на цены на полках в Париже. Необработанное поле в Зимбабве может поставить под угрозу сырьевую стратегию Китая. Таким образом, климатический парадокс в Африке — это не только гуманитарный, но и геополитический вопрос. Если мир сможет воспринимать Африку не как зону для оказания помощи, а как равноправного партнёра, этот кризис может стать началом зелёного возрождения континента. В противном случае Африка потеряет не только своё будущее, но и совесть мира. И, возможно, в будущем на вопрос «почему сгорел мир?» первым ответом станет: «потому что в Африке не было воды».
[1] “Conflict, extreme weather worsening hunger in West, Central Africa, WFP warns”, Reuters, 9-ое Мая 2025, https://www.reuters.com/world/africa/conflict-extreme-weather-worsening-hunger-west-central-africa-wfp-warns-2025-05-09/, (Дата Доступа: 06.07.2025).
[2] “Climate Finance.” United Nations – Climate Action. https://www.un.org/en/climatechange/raising-ambition/climate-finance, (Дата Доступа: 06.07.2025).
[3] Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). Chapter 9: Africa. In H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, M. Tignor, vd. (Ed.), Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (AR6 WGII). Cambridge University Press. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-9/, (Дата Доступа: 06.07.2025).