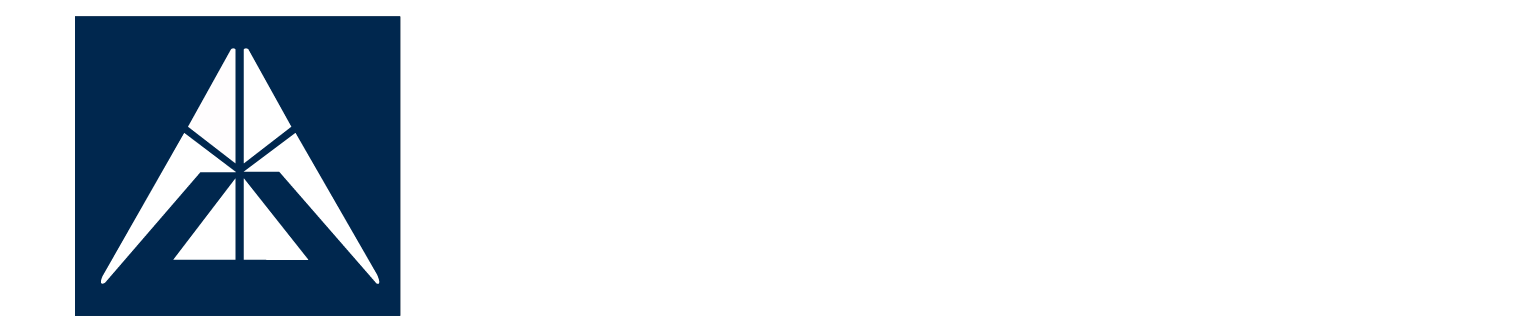Анкарский центр исследований кризисных ситуаций и политики (ANKASAM) представляет вашему вниманию интервью с президентом Scarab Rising Inc. и главным редактором The Washington Outsider, а также опытным юристом по вопросам прав человека и национальной безопасности Ириной Цукерман в рамках проводимых ею исследований гуманитарного кризиса, обусловленного минной угрозой в Азербайджане, вопросов ответственности сторон, причастных к установке мин, в соответствии с нормами международного права, а также возможных мер, которые международное сообщество может предпринять для обеспечения соблюдения этих обязательств.
1. Считаете ли Вы, что Армения имеет юридическое обязательство разминировать мины, установленные на ранее оккупированных ею территориях, или, по крайней мере, предоставить точные карты этих минных полей?
После завершения вооружённых конфликтов мины нередко остаются смертоносным наследием — отголоском отслуживших своё военное назначение стратегий и неурегулированных политических противоречий. Регион Южного Кавказа не является исключением в этом вопросе. Утверждение Арменией в прошлом контроля над Карабахом и некоторыми соседними территориями, а также широкое использование ею в данном процессе наземных мин — вопрос, который и сегодня находит отклик как в дипломатических, так и в юридических кругах: Есть ли у Армении юридическое обязательство по международному гуманитарному праву разминировать эти мины или, по крайней мере, предоставить точные карты их расположения? Ответ — не просто “да”. Это “да” с примечаниями.
Давайте вместе распутаем этот юридический лабиринт.
Общие нормы международного гуманитарного права — в частности, Женевские конвенции и дополнительные протоколы к ним — прямо обязывают стороны вооружённого конфликта обеспечивать защиту гражданского населения, включая период после завершения активных боевых действий. Применение наземных мин, особенно тех, которые направлены против людей, не во всех случаях является прямо незаконным. Однако такое использование сопровождается определенными обязательствами: Необходимо минимизировать ущерб гражданскому населению и обозначить, зафиксировать и в конечном итоге очистить местоположение мин.
Согласно правилу 83 в базе данных общего права Международного комитета Красного Креста:
- «После прекращения активных боевых действий стороны в конфликте должны разминировать или обезвредить наземные мины в районах, находящихся под их контролем».
Сегодня Армения, возможно, не контролирует эти регионы, но эти мины были заложены в период нахождения под контролем Армении. Поэтому Армения не может быть освобождена от этой ответственности только потому, что она ушла из региона.
Теперь вы можете спросить: Если Армения больше не контролирует эти территории, может ли она по-прежнему нести ответственность за разминирование?
Именно здесь международное право становится сложным.
Хотя в настоящее время для Армении практически невозможно направить на места группы разминирования, она может выполнить свое обязательство, предоставив точные карты, показывающие местоположение уже установленных ею мин. Это не одолжение или услуга; Это прямое требование норм международного гуманитарного права, которые предусматривают защиту гражданского населения.
Непредоставление этой информации может быть истолковано как преднамеренное создание угрозы для жизни гражданского населения и представлять собой нарушение Четвертой Женевской конвенции об обязательстве защищать гражданское население на оккупированных территориях. Кроме того, Конвенция о запрещении наземных мин 1997 года, широко известная как Оттавская конвенция, сформировала международные правовые ожидания и обычаи в отношении использования наземных мин. Несмотря на то, что Армения не подписала данную конвенцию, ее основные принципы стали частью общего международного права и определяют ожидания.
Следовательно, передача карт является как юридическим, так и моральным обязательством Армении. Неспособность сделать это может быть воспринята как молчаливое и незаметное продолжение военных действий. Сторонники Армении могут утверждать, что предоставление карт будет равносильно «помощи другой стороне» и, следовательно, политически неприемлемо.
Однако следует помнить: В международном гуманитарном праве «политические трудности» не являются уважительной причиной для создания угрозы гражданскому населению. Напротив, преднамеренный отказ от обмена картами и вызванная этим гибель гражданских лиц могут даже привести к индивидуальной уголовной ответственности.
Кроме того, наземные мины не делают различий между солдатами и пастухами, детьми и комбатантами. В частности, наличие немаркированных и не нанесенных на карту наземных мин является явным нарушением «принципа недискриминации», одного из основополагающих принципов международного гуманитарного права.
Часто звучащее оправдание состоит в том, что Армения больше не имеет суверенитета над этими землями и, следовательно, не обязана этого делать. Однако обязательство минимизировать ущерб, причиненный оружием, использованным в ходе конфликта, не исчезает с уходом из региона. В юридической терминологии это обязательство называется «продолжающимся обязательством». Мы можем представить это как «уборку», которую необходимо провести после войны, но которая может иметь фатальные последствия, если ее не провести. Более того, послевоенный период не является периодом правового вакуума. Напротив, это этап, на котором обязательства сторон становятся более очевидными. Сегодня международное сообщество больше не приемлет подход «игнорировать и забыть». Армения должна выполнить это обязательство, если хочет, чтобы ее признали ответственным региональным игроком.
С точки зрения международного гуманитарного права, Армения обязана не только воздерживаться от установки новых мин, но и устранить опасности, создаваемые уже установленными минами, и, как минимум, своевременно предоставлять точные и полные карты минных полей соответствующим властям. Речь идет не о политике, а о соблюдении правовых и моральных принципов.
Бездействие Армении не только приведет к новым жертвам среди гражданского населения, но и подвергнет страну международному правовому контролю и моральной критике. В то время как регион продолжает свои усилия по переходу к послевоенному миру, наземные мины остаются мощными символами неразрешенной напряженности
То, какой запомнят Армению в будущем — как бывшего оккупанта или как игрока, приверженного миру, — во многом зависит от ее дальнейших шагов. И не стоит забывать, что на правовой арене, как и на поле боя, бездействие иногда может быть таким же резонансным, как взрыв мины.
2. Учитывая, что только около %25 карт минных полей, предоставленных Арменией, являются достоверными, как это влияет на оперативную эффективность и безопасность операций по разминированию на местах?
Давайте теперь представим себе эту сцену: отряды саперов рассредоточились по выжженному солнцем ландшафту освобожденной территории, ритмично двигая миноискателями по кругу. Каждый звуковой сигнал может означать смертельный сюрприз.
Группы разминирования работают на основе официальных и точных карт — якобы предоставленных Арменией в рамках ее послевоенных обязательств. Однако здесь есть серьезная проблема: Только около %25 этих карт достоверны. Это означает, что три из каждых четырех участков, обозначенных как «чистые» или «пригодные для расчистки», могут быть либо грубо неточными, либо устаревшими, либо полностью сфабрикованными. Такая ситуация не только вызывает тревогу. Это рецепт хаоса — а в разминировании хаос имеет смертельно опасные последствия.
С оперативной точки зрения, %75 недостоверность карт минных полей, предоставленных Арменией, подрывает самый фундаментальный принцип разминирования: предсказуемость. Цель использования карт минных полей — уменьшить неопределенность, ускорить операции и — самое главное — предотвратить гибель людей. Но если карты становятся не руководством, а догадками, они создают ложное чувство безопасности на местах.
Группы разминирования полагаются на эти данные, чтобы определить приоритетность районов, распределить ресурсы и убедиться, что персонал не отправлен в смертельную ловушку. Если карты неточны или просто небрежны, все операции приходится планировать заново. Это означает замедление прогресса, повышение риска и экспоненциальный рост затрат.
На практике ненадежные карты заставляют саперов рассматривать все отмеченные участки как подозрительные. Это означает, что каждый квадратный сантиметр приходится сканировать заново, что является колоссальной тратой времени и ресурсов. Вместо того чтобы проводить целенаправленные работы по очистке на основе данных, командам приходится играть в смертельную «игру на минном поле». Но потери здесь не цифровые; настоящий, металлический и смертоносный.
Это также имеет более широкие последствия:
- Задержки в урегулировании, которые будут длиться годами,
- Застой в инфраструктурных проектах,
- Сельскохозяйственные земли, которые остаются непригодными для использования,
- Невидимые угрозы гражданским лицам, пытающимся вернуться домой,
- Правительства оказались перед выбором: восстановление или обеспечение безопасности человека…
В итоге ненадежные карты превращают техническую задачу в политический кризис и кризис безопасности.
Когда достоверными оказываются лишь %25 данных, это выглядит уже не как простая ошибка, а как преднамеренный саботаж. В дипломатических кругах отрицание может сработать, но на местах это воспринимается как попытка помешать восстановлению и подвергнуть опасности гражданское население. Не стоит забывать, что Армения контролировала эти регионы в течение почти тридцати лет. Утверждение о том, что более двух третей записей были утеряны, не является ни достоверным, ни обоснованным с точки зрения международного права.
Это не только нарушение норм международного гуманитарного права, но и молчаливое, коварное продолжение военных действий. Война ведется уже не артиллерией, а минами, бесшумно и одна за другой.
Из-за ненадежности карт группы по разминированию вынуждены применять чрезвычайные меры предосторожности. Это означает более тщательную проверку, ручные проверки, детальную оценку рисков и дополнительные меры безопасности.
В результате операционные расходы увеличиваются, а сроки растягиваются на десятилетия. Это также испытывает терпение международных доноров, поддерживающих усилия по разминированию. Страны и организации гражданского общества могут устать от постоянного финансирования на основе плохих данных. Это означает сокращение финансирования, замедление прогресса и рост гражданского гнева.
Это также оказывает большое влияние на моральный дух. Каждый сапер ежедневно подвергается риску смерти. Когда карты в их руках напоминают карту сокровищ, нарисованную пьяным пиратом, их чувство доверия полностью рушится. Работа, выполняемая в условиях высокого стресса, становится еще более опасной; Растет количество несчастных случаев со смертельным исходом, профессионального выгорания и сбоев в работе.
С юридической точки зрения, тот факт, что Армения представила дефектные карты, не освобождает ее от ответственности. Напротив, это усугубляет ее ответственность. Предоставление недостоверных данных и, тем не менее, утверждение, что обязательства были выполнены, может считаться недобросовестным поведением в соответствии с международным гуманитарным правом. Оно не соответствует критериям «разумных усилий» или «добросовестного сотрудничества», особенно когда есть подозрения в намеренном введении в заблуждение.
Еще хуже то, что ненадежность карт подрывает региональные усилия по укреплению доверия. Как можно открыть транспортные коридоры, открыть посольства или нормализовать дипломатические отношения в отсутствие безопасного прохода для гражданских лиц?
Подводя итог, можно сказать, что показатель точности в 25% — это не просто статистика; Это серьезное обвинение против Армении. Этот показатель свидетельствует о том, что Армения намерена в лучшем случае создать неполное, а в худшем — ложное представление о выполнении своих правовых обязательств. И цена данной ситуации будет состоять в человеческих, экономических, дипломатических и — что самое болезненное — полностью предотвратимых потерях.
Но как назвать карту, которая уносит больше жизней, чем спасает? Это не инструмент мира; это вооруженный документ — документ, который превращает бумагу в шрапнель, а чернила — в молчаливое соучастие в будущих трагедиях. Если Армения не предоставит настоящую прозрачность и проверяемые данные, каждый «писк», услышанный на этих минных полях, будет по-прежнему отголоском краха послевоенной ответственности и горькой правды:
Иногда самая смертоносная ложь нарисована контурными линиями.
3. С какими основными проблемами сталкивается Азербайджан в области широкомасштабного разминирования? Считаете ли вы достаточным нынешний международный вклад — как технический, так и финансовый?
Если искать современную аналогию расчистке Гераклом Авгиевых конюшен, то миссия по разминированию в Азербайджане, безусловно, соответствует этим требованиям, но с одним болезненным отличием: здесь расчищают не навоз, а десятки тысяч зарытых смертельных ловушек, и один неверный шаг может превратить ваш труд в похороны.
После того как Азербайджан вернул свои территории в результате войны 2020 года и последующих событий, он столкнулся с одной из самых масштабных и опасных операций по разминированию в эпоху после холодной войны. Это не просто операция по очистке территории; это продолжение затяжной войны против невидимого, терпеливого и молчаливого врага.
Прежде всего, речь идет о сотнях тысяч наземных мин — противотанковых мин, мин, предназначенных для поражения живой силы, ловушек и других хитроумных смертельных ловушек, — разбросанных по бывшим оккупированным территориям. Это не поля, расположенные ровными рядами. Напротив, они неравномерно расположены вокруг гор, долин, лесов, сельскохозяйственных угодий и даже источников воды.
Кроме того, рельеф здесь неоднороден. Агдамский, Физулинский, Джабраильский, Зангиланский и Лачинский районы полны географических трудностей: от неровных лесистых склонов до густо заросших равнин. Часть мин была заложена во время первой Карабахской войны в 1990-х годах, а часть — совсем недавно. Некоторые из них (плохо) нанесены на карту, большинство вообще не нанесены на карту. Множество мин были намеренно установлены в жилых районах, что является военным преступлением как по форме, так и по функциям, и сделало восстановление домов, школ, больниц и инфраструктуры в разы более опасным.
Во-вторых, разминирование не только опасно, но и крайне медленно. Каждый гектар требует недель или даже месяцев кропотливой работы. Взрывные устройства находят (если повезет), обезвреживают и разминируют — чаще всего вручную. А теперь умножьте это на сотни тысяч гектаров.
Почему это стратегическая проблема?
Потому что у Азербайджана амбициозный план восстановления. Такие города, как Агдам и Физули, отстраиваются с нуля. Но ничего — ни фундамента, ни оросительного канала, ни электрического столба — нельзя построить, пока земля не будет объявлена безопасной. Каждая неразорвавшаяся мина — это стена на пути строительства нации.
А время — это не только деньги, но и моральный дух. Перемещенные лица стремятся вернуться домой после трех десятилетий неопределенности. Задержки, вызванные минами, продлевают их перемещение, вызывают разочарование и задерживают эмоциональное завершение травматического периода.
Несмотря на массовую национальную мобилизацию, Азербайджану по-прежнему не хватает обученных саперов, специализированного оборудования и передовых технологий. Азербайджанское национальное агентство по противоминной деятельности (ANAMA) выполняет героическую работу, но имеющиеся людские ресурсы, оборудование и финансирование недостаточны для масштабов угрозы.
Деминеры перегружены. Степень износа высокая. Каждая задача – это умственное и физическое истощение. Между тем, потребность в таких технологиях, как беспилотные летательные аппараты, картографические системы на базе искусственного интеллекта и бронетехника, превышает текущее предложение. Азербайджан задействует кинологические подразделения и специалистов, прошедших обучение за рубежом; Однако их масштабирование на национальном уровне представляет собой сложную задачу.
Следует также упомянуть проблему карт. Представленные Арменией «карты минных полей» зачастую либо грубо неточны, либо трагически неполны. Как упоминалось ранее, только около %25 представленных карт были признаны полезными. Это означает, что в большинстве районов Азербайджану пришлось работать практически вслепую — полагаясь на наблюдения, металлоискатели и память местных жителей.
Отсутствие достоверных данных не только замедляет работу, но и превращает каждую операцию по разминированию в засаду. Кроме того, многие мины сделаны из пластика или скрыты, а это значит, что даже самые совершенные датчики не могут обнаружить их все. Это не просто трудность, это преднамеренное препятствие, обернутое бюрократическим безразличием.
Мы должны четко понимать это. Некоторые страны и организации предоставляют пожертвования, техническую и учебную помощь, но глобальная поддержка явно недостаточна для решения масштабной проблемы. Западные столицы любят делать заявления о мире, стабильности и гуманитарной ответственности, но этот энтузиазм быстро сходит на нет, когда дело доходит до финансирования оборудования, необходимого для реального устранения опасности.
Такая нерешительность Запада во многом обусловлена соображениями политической осторожности: они опасаются, что их посчитают «занимающими чью-либо сторону» в армяно-азербайджанском конфликте. Однако нейтралитет не должен быть оправданием для игнорирования чрезвычайной гуманитарной ситуации. Наземные мины не делают различий. Он убивает детей, фермеров и гуманитарных работников.
Тем временем крупные донорские организации направили большую часть своих ресурсов в другие горячие точки, такие как Йемен, Сирия и Украина. Это вынуждает Азербайджан конкурировать на рынке реагирования на кризисы, где ресурсы ограничены. Некоторые фоны зарезервированы для ярких фотографий; Однако долгосрочные инфраструктурные потребности, такие как обучение местных саперов или закупка современного роботизированного оборудования, по-прежнему хронически не финансируются.
Еще одна проблема, о которой редко говорят, — это проблема публичной дипломатии. В то время как Азербайджан пытается заручиться международной поддержкой, некоторые лоббистские группы преуменьшают важность проблемы мин или представляют ее как политически мотивированную цель.
Это создает странные двойные стандарты. Когда другие страны просят о послевоенной помощи, им аплодируют, считая их ответственными. Когда Азербайджан обращается с таким же призывом, его встречают скептически и с оговорками. Это мешает стране заручиться глобальной поддержкой, необходимой для решения реальной, документально подтвержденной гуманитарной катастрофы.
Усилия Азербайджана по разминированию — это не просто кампания по обеспечению безопасности. Эти усилия лежат в основе восстановления страны. Пока мины не будут разминированы, не будет ни возвращения, ни восстановления, ни примирения.
Но для ясности — это не та задача, которую Азербайджан может решить в одиночку. Неспособность международного сообщества подкрепить свою риторику реальной поддержкой говорит о многом. В конце концов, дело не только в шахтах; речь идет о моральной ясности. Поможем ли мы тем, кто пытается восстановить жизнь на охваченных войной землях? Или мы будем молчать, наблюдая, как очередное поколение исчезает из виду на фоне дипломатической инертности и усталости от пожертвований?
Если больше союзников не превратят свои заявления в сканирующие устройства, а свои метки — в защитную одежду, героические саперы Азербайджана продолжат рисковать всем, чтобы нейтрализовать не только взрывчатые вещества, но и окружающую их благодушие.
И, возможно, именно это является самым опасным минным полем.
4. Какие механизмы может использовать международное сообщество, включая Организацию Объединенных Наций и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), для обеспечения ответственности за такие долгосрочные послевоенные угрозы?
Если война оставляет шрамы, то наземные мины — это шрапнель, которая непрерывно кровоточит. И когда конфликт заканчивается, обезвреживание этих остатков — или, по крайней мере, создание дорожной карты, позволяющей избежать их — должно быть моральным рефлексом, а не услугой. Но, как с болью демонстрирует послевоенный ландшафт Азербайджана, мы все еще далеки от глобального чувства ответственности за эти постоянные угрозы. Неизбежно возникает вопрос: Что на самом деле может сделать международное сообщество, когда государство закапывает мины, а затем закапывает правду?
Подсказка: Гораздо больше, чем оно делает сейчас.
Для начала давайте рассмотрим правовые инструменты, которые уже существуют, но редко используются эффективно.
Оттавская конвенция 1997 года — официально известная как Конвенция о запрещении наземных мин — запрещает использование, накопление, производство и передачу наземных мин, предназначенных для поражения людей, и налагает на государства-участники обязательства по разминированию и помощи жертвам. Армения не является участником этой конвенции. Какое совпадение, не правда ли??
Однако вот что становится интересным: общее международное гуманитарное право в интерпретации Международного комитета Красного Креста налагает на стороны конфликта обязательство минимизировать вред гражданскому населению даже после того, как замолкает оружие. Это включает в себя обязанность обозначить, очистить или, по крайней мере, раскрыть местоположение мин. Когда государство сознательно утаивает эту информацию, оно вступает в сферу преднамеренного создания угрозы для жизни гражданского населения — потенциального военного преступления.
Почему же международное сообщество не преследует виновных? Здесь мы переходим ко второму механизму.
В то время как международные правовые процессы зачастую медленны и политизированы, дипломатические результаты могут быть быстрыми и эффективными — при наличии политической воли. Такие организации, как ОБСЕ и Совет ООН по правам человека, имеют платформы для документирования и разоблачения преднамеренных послевоенных опасностей. Можно назначить специальных докладчиков; они могут собирать доказательства и публиковать поразительные отчеты. И эти доклады абсолютно важны. Они формируют международное общественное мнение, узаконивают санкции и дипломатически изолируют государства-нарушители.
Более творческий подход заключается в том, что правительства-доноры и многосторонние агентства по оказанию помощи могли бы обусловить выделение средств на реконструкцию или помощь в целях развития прозрачностью и сотрудничеством в области разминирования. Ни карты, ни денег. Простое уравнение; Однако Запад неохотно применяет его во всех случаях.
Режимы санкций, введенные Европейским союзом или Соединенными Штатами Америки, могут также включать положения о послевоенной обструкции. Если будет установлено, что государство намеренно скрывало информацию о минных полях, тем самым задерживая восстановление другого государства и возвращение беженцев, целевые санкции против соответствующих властей или министерств вполне законны.
Прецеденты такого рода имеются: например, санкции, введенные в отношении субъектов, препятствующих оказанию гуманитарной помощи в Сирии и Судане.
В идеальном мире Совет Безопасности ООН признал бы преднамеренную угрозу гражданскому населению, создаваемую скрытыми наземными минами, угрозой миру и безопасности. Это не фантазия, это соответствует существующим прецедентам. Например, на Балканах Совет Безопасности принял послевоенные резолюции, признающие неразорвавшиеся боеприпасы серьезной угрозой безопасности.
Теоретически резолюция Совета Безопасности могла бы потребовать полной прозрачности в отношении минных полей, назначения групп наблюдателей или передачи дел о воспрепятствовании в Международный уголовный суд в соответствии со статьей 8 Римского статута. В этой статье криминализируются преднамеренные нападения на гражданских лиц и применение оружия, причиняющего «необходимые страдания или тяжкие телесные повреждения». Конечно, учитывая нынешние геополитические реалии, такое решение будет крайне сложно принять, особенно если один из пяти постоянных членов рассматривает обвиняемое государство как стратегического партнера. Но даже если такая попытка окажется неудачной, она привлечет международное внимание и заставит государства выбрать сторону.
Мы также должны учитывать роль нейтральных третьих сторон или международных технических консорциумов. ОБСЕ уже провела несколько миссий по установлению истины в замороженных конфликтах. Аудит разминирования, спонсируемый коалицией государств — с участием беспристрастных инженеров, беспилотников и картографических инструментов на базе искусственного интеллекта — может выявить неопровержимые доказательства злонамеренного поведения.
Подобные проверки, если они будут скоординированы с международными юридическими наблюдателями, впоследствии могут стать основой для международного арбитража, исков о компенсации ущерба или многосторонних судебных разбирательств. Цель состоит не только в наказании за прошлые нарушения, а также заключается в создании применимых норм для будущих конфликтов.
Не будем думать, что мы вступили в совершенно новую область в этой области. Прецедентов предостаточно:
- Дело Хорватии против Сербии в Международном суде включало обвинения в этнических чистках, но также поднимало вопросы послевоенной ответственности.
- В Колумбии Программа развития ООН координировала долгосрочную операцию по разминированию после гражданской войны и вела переговоры об ответственности за мины, установленные партизанами ФАРК.
- В Косово и Камбодже международное финансирование было напрямую связано с послевоенной прозрачностью, а за несоблюдение обязательств вводилась дипломатическая изоляция.
Следовательно, набор инструментов доступен. Не хватает лишь политической отвертки, чтобы оказывать давление там, где это необходимо.
Международное сообщество стоит перед выбором: либо закрепить обмен картами минных полей и послевоенное разминирование как не подлежащие обсуждению обязательства в международном праве, либо послать опасный сигнал о том, что наземные мины являются приемлемым инструментом послевоенной мести.
Позволяя государствам вставать из-за стола переговоров с картами в карманах и молчанием на устах, мы не только продлеваем страдания, но и используем время в качестве оружия, превращая любую задержку в форму пассивной агрессии.
Если международное право имеет какой-либо смысл, оно должно нести в себе следующий принцип: никакая победа не дает вам права похоронить опасность и уйти. И никакой мир невозможен, пока мины не будут разминированы и правда не выйдет на свет.