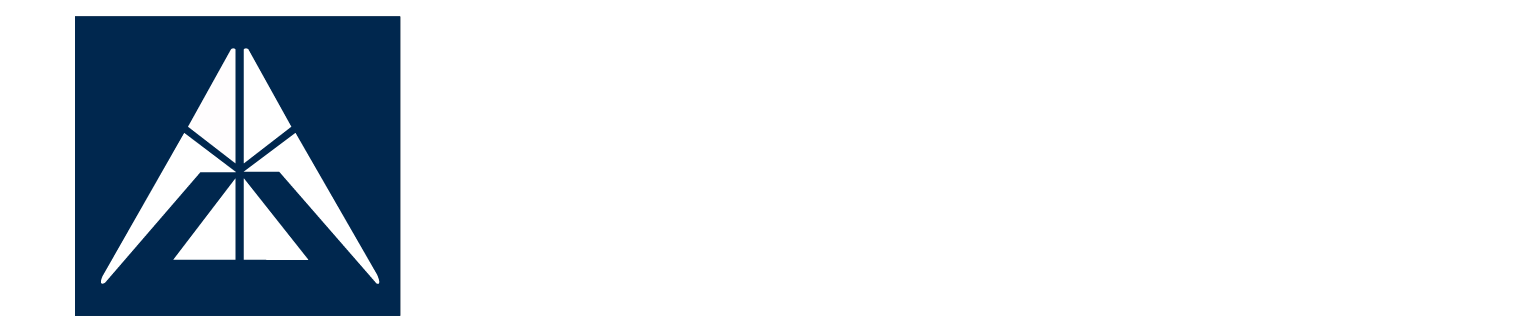Параметры соперничества в глобальной политике уже не ограничиваются исключительно контролем над сушей и морскими пространствами; под воздействием климатических изменений, появления новых транспортных маршрутов и диверсификации энергетических ресурсов полярные регионы стали новым центром борьбы между великими державами. Особенно в постхолодновоенный период Северный Ледовитый океан (в международной литературе официально именуемый “Арктика”), ранее рассматривавшийся как “зона мира и сотрудничества”, ныне превращается в стратегический фронт как с точки зрения энергетической геополитики, так и в плане военно-политического укрепления. Аналогичным образом Южный полюс (в международной литературе официально именуемый “Антарктика”), несмотря на ограничения, установленные Антарктическая Договорная Система (АДС), всё более интенсивно становится пространством, отражающим баланс сил. В этом контексте полярные регионы занимают центральное место в международной повестке не только в рамках экологической защиты и научного сотрудничества, но и как стратегические арены, демонстрирующие уязвимость глобального порядка и многомерный характер соперничества.
В этой новой конфигурации роль Россия является одним из ключевых факторов, определяющих будущее полярных регионов. Москва стремится не только преодолеть западные санкции, но и закрепить стратегию “поворота на Восток”, развивая трансарктические логистические проекты, интеграцию Северный морской путь и диверсификацию энергетических маршрутов в Арктика. В Антарктика же Россия наращивает своё присутствие посредством создания новых баз, взлётно-посадочных полос и модернизации станций, превращая научный потенциал также в инструмент геополитического влияния. Сокращение активности Соединённые Штаты Америки (США) в связи с нехваткой ресурсов и прерыванием программ предоставляет Москва более широкое пространство для манёвра в полярной политике. Следовательно, любой анализ, посвящённый полярным регионам, будет неполным без учёта многослойных стратегических устремлений Россия.
1. Стратегия Северный Ледовитый Океан: Геополитическое Соперничество, Логистические Тупики и Трансарктическая Трансформация
Заявления представителя Министерство иностранных дел Российской Федерации Владислава Масленникова на Восточный экономический форум указывают на глобальные последствия усиливающегося геополитического соперничества в Арктика. Санкционная и военная политика НАТО, направленная на сдерживание Москва, подрывает не только интересы Россия, но и научные проекты, природоохранные инициативы и экономические связи. Образ Арктика как “региона сотрудничества”, сохранявшийся на протяжении многих лет, постепенно трансформируется в стратегический фронт на фоне наращивания военного присутствия НАТО.[i]
Логистический тупик Москва проявляется, как подчёркивает министр по развитию Дальний Восток и Арктика Алексей Чекунков, в том, что при пропускной способности портов, приближающейся к 400 млн тонн, железнодорожная и автотранспортная инфраструктура не справляется с таким объёмом. Этот “узкий коридор” ограничивает экспорт энергоресурсов и сырья Россия, ослабляя её выход на рынки Азиатско-Тихоокеанский регион. Поэтому интеграция Северный морской путь, портов Дальний Восток и линии Восточный полигон становится долгосрочным логистическим каркасом, который соединит европейскую часть Россия, Урал и Сибирь с Тихий океан. Тем самым Москва укрепляет инфраструктурную основу своей стратегии “поворота на Восток” в ответ на западные санкции.[ii]
Проект “Трансарктический Транспортный Коридор”, простирающийся от Санкт-Петербурга до Владивостока и от Мурманска–Архангельска к Северный морской путь, отражает глобальное видение Москва. Этот маршрут призван не только создать кратчайшие и безопасные торговые пути, но и преобразовать экономический и культурный облик Владивостока. С 2015 года инвестиции в регион превышают национальный средний показатель, что демонстрирует его динамичность. Однако для устойчивости инфраструктуры критически важны государственно-частные партнёрства, долгосрочное финансирование и координирующая роль ВЭБ.РФ.[iii]
Объявленные 4 сентября 2025 года новые меры свидетельствуют о многомерной трансформации морской стратегии Россия. Проекты Корпорация развития Дальнего Востока и Федеральное агентство морского и речного транспорта направлены на создание мультимодальных логистических центров и внедрение прозрачного и эффективного управления портами с помощью цифровизации. Планы по строительству плавучих атомных электростанций к северу от Хабаровска призваны повысить энергетическую безопасность. В то же время потери грузопотока и санкции в бассейнах Балтийское море и Северный Ледовитый океан создают узкие места на торговых маршрутах Москва. Введение Росатом модели “единого морского оператора” рассматривается как попытка повысить прозрачность тарифов и предсказуемость северных перевозок. Поиск альтернативных рынков в ответ на рыбохозяйственные санкции Норвегия стал частью стратегии гибкости Россия.[iv]
2. Возрастающее Присутствие Россия в Южный Полюс и Антарктическая Договорная Система
Будущее Антарктика определяется не только вопросами экологической защиты и научного сотрудничества, но и тем, как будут управляться усиливающиеся геополитические и экономические интересы. В этом контексте определяющей рамкой выступает АДС: подписанная в 1959 году и ныне охватывающая 54 государства-участника, АДС закрепила за континентом исключительно мирные и научные цели, запретила военную деятельность, приостановила территориальные притязания и заморозила споры о суверенитете, обеспечивая стабильность более шестидесяти лет. Протокол об охране окружающей среды 1991 года запретил освоение минеральных ресурсов как минимум до 2048 года, выдвинув на первый план защиту окружающей среды, а не экономическую выгоду. Географическая близость и исторические претензии стран Латинская Америка –особенно Аргентина и Чили– делают регион ключевым направлением в политике США в отношении Южный полюс, тогда как практика применения и контроля норм АДС на местах усиливает дипломатический вес этих акторов.[v]
В рамках этого механизма укрепление присутствия Россия на континенте через создание новых баз, взлётно-посадочных полос и проекты модернизации составляет основу стратегии Москва по накоплению легитимного влияния в Антарктика на основе научного потенциала и логистической доступности. Исследовательские станции, в пределах допустимого нормами АДС, функционируют как инструмент поддержания фактического присутствия и постепенного укрепления (приостановленных) суверенных позиций стран. Инфраструктуры двойного назначения –телескопы, спутниковые приёмники, радары и системы связи– способны не только собирать научные данные, но и выполнять функции наблюдения/мониторинга, что постоянно актуализирует дискуссии о внутренней эрозии норм. В этом контексте модернизация станций и планы по созданию новых объектов Москва выходят на первый план, тогда как нехватка ледокольного флота, редкие инспекции станций и перебои в научных программах снижают полевое лидерство США. Для США предотвращение нарушений и обеспечение устойчивости режима АДС/Мадридский протокол требует усиления механизмов инспекций, наращивания ледокольных мощностей и расширения многостороннего сотрудничества.[vi]
Практика показывает, что страны с наибольшим уровнем научного производства и логистических возможностей получают в АДС непропорционально большое влияние. Поэтому восстановление Россия законсервированных станций, строительство ВПП и модернизация инфраструктуры укрепляют не только её научные показатели, но и дипломатический вес. Напротив, сокращение бюджета (сокращения оцениваются примерно в 60 млн долларов США), планируемое через Национальный научный фонд США и Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), слабый ледокольный флот и падающие логистические возможности снижают влияние Вашингтона на континенте.[vii] Такая ситуация вызывает обеспокоенность особенно у Австралия: пока продолжаются исследования в критически важных районах вроде ледник Денман, возможность того, что образовавшийся из-за ухода США вакуум будет заполнен другими акторами –прежде всего Москва– делает усилия по созданию морских заповедников и регулированию промысла криля ещё более спорными. Действительно, в некоторых процессах принятия решений возражения Россия (иногда совместно с Пекин) против ужесточающих защитные меры инициатив осложняют функционирование экологического режима; по этой причине Австралия стремится сохранить логистико-научное партнёрство с США, одновременно предпринимая шаги по наращиванию собственных возможностей.[viii]
В ресурсном измерении, как отмечается в различных аналитических материалах, включая The National Interest, сообщения об обнаружении Россия крупных нефтяных месторождений вблизи Южный полюс позволяют предположить обострение конкуренции за будущее континента.[ix] Подобные заявления выводят вопрос доступа к неосвоенным энергетическим запасам за рамки научной повестки и превращают его в непосредственный геополитический досье. В этом сценарии подчёркивается необходимость того, чтобы США совместно с Великобритания и Австралия активизировали исследовательские миссии, укрепляли инфраструктуру и развивали современные системы мониторинга и контроля, тогда как модернизация станционной сети и укрепление логистических цепочек Москва означают повышение её полевой видимости посредством наращивания научного потенциала в логике АДС. В конечном итоге Антарктика, сохраняя статус, посвящённый миру и науке более шестидесяти лет, вступила в новую фазу, где научные результаты и логистическая доступность превращаются в ключевые показатели геополитического влияния; в этой фазе стратегические шаги Россия будут напрямую определять устойчивость нормативной архитектуры континента и баланс сил.
3. Возрастающая Роль Полюсов в Борьбе Великих Держав
Глобальное соперничество держав уже не ограничивается традиционными геополитическими пространствами; наряду с линиями конфликтов в Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток или Европа, полярные регионы также становятся новыми зонами напряжённости в международной политике. Во время администрации Джо Байдена внешнеполитические приоритеты Соединённые Штаты Америки (США) формировались вокруг Азиатско-Тихоокеанский региона, и их целью было сдерживание Россия в этом регионе. Однако с приходом администрации Дональд Трампа стратегические приоритеты Вашингтона частично изменились: при попытках наладить более сбалансированные отношения с Москва участие США в Азиатско-Тихоокеанский регион оказалось относительно отодвинуто на второй план, а внимание переключилось на Южный полюс. Этот сдвиг показывает, что Вашингтон стремится уравновешивать соперников не только в Тихий океан, но и в Антарктика, и указывает на то, что глобальное соперничество приобретает новую стратегическую линию фронта на оси Северный Ледовитый океан – Южный полюс.
В дальнейшем особенно политика Россия в Северный Ледовитый океан превратит полюса в центральное поле международной борьбы. Москва стремится стать устойчивым игроком в мировой торговле, расширяя портовые мощности, продвигая проекты “Трансарктический Транспортный Коридор” и обеспечивая долговременность стратегии “поворота на Восток”. Одновременно Россия укрепляет своё присутствие в Антарктика, создавая новые базы, взлётно-посадочные полосы и модернизируя станции, превращая научный потенциал в источник стратегического влияния. Нехватка ледокольного флота, сокращение научных программ и ослабление дипломатического веса США подрывают лидерство Вашингтона, тогда как региональные акторы, такие как Австралия и страны Латинская Америка, пытаются компенсировать возникающие пробелы. В будущем судьба полюсов будет определяться не только экологической защитой и научным сотрудничеством, но и тем, насколько Россия сможет управлять своими инфраструктурными прорывами и согласовывать интересы с другими великими державами. При отсутствии консенсуса полюса превратятся в новую “сцену соперничества”, углубляющую хрупкость международного порядка.
В итоге глобальное соперничество держав уже не ограничивается традиционными регионами, но выдвинуло полюса в центр международной политики. Усилия Россия по укреплению логистических и энергетических маршрутов в Северный Ледовитый океан и по повышению стратегической видимости в Южный полюс через базы и научные исследования делают эти регионы неотъемлемой частью глобальных расчётов Москва. Ослабление логистического потенциала и сокращение научных программ США уменьшают влияние Вашингтона на континенте, тогда как акторы вроде Австралия и стран Латинская Америка лишь частично пытаются компенсировать этот вакуум. В этих условиях будущее полюсов будет определяться не только экологической защитой и научным сотрудничеством, но и тем, какое место многоуровневая стратегия Россия займёт в международной системе; в противном случае и Северный Ледовитый океан, и Южный полюс перестанут быть зонами, посвящёнными миру и науке, превратившись в новые фронты борьбы великих держав.
[i] “MID Rossii: Popytki Sderzhivat RF v Arktike Negativno Vliyayut na Mirovuyu Ekonomiku”, TASS, https://tass.ru/politika/24956511, (Дата обращения: 04.09.2025).
[ii] “Moshchnosti Dalnevostochnykh Portov Dostigli Pochti 400 Mln Tonn”, Alta, https://www.alta.ru/logistics_news/121499/, (Дата обращения: 04.09.2025).
[iii] Erik Romanenko, “Shuvalov: Razvitiye Transarkticheskogo Koridora Preobrazit Ekonomiku Vladivostoka”, TASS, https://tass.ru/ekonomika/24958367, (Дата обращения: 04.09.2025).
[iv] “Razvitiye Sudokhodstva v Arktike i na Dalnem Vostoke, a Takzhe Tsifrovizatsiya Infrastruktury Dalnevostochnykh Portov: Obzor Pressy za 4 Sentyabrya 2025 Goda”, Korabel, https://www.korabel.ru/news/comments/razvitie_sudohodstva_v_arktike_i_na_dalnem_vostoke_a_takzhe_cifrovizaciya_infrastruktury_dalnevostochnyh_portov_obzor_pressy_za_4_sentyabrya_2025_goda.html, (Дата обращения: 04.09.2025).
[v] “Antarctic Treaty System”, SCAR, https://scar.org/policy/antarctic-treaty-system, (Дата обращения: 04.09.2025).
[vi] Alexander B. Gray, “An America First Policy for the Antarctic”, Foreign Policy, https://foreignpolicy.com/2025/05/19/antarctica-south-pole-china-russia-resources-geopolitics-treaty-security, (Дата обращения: 04.09.2025).
[vii] Brendan Cole ve John Feng, “Map Shows Where China and Russia Are Expanding Bases in Antarctica”, Newsweek, https://www.newsweek.com/russia-china-antarctica-map-2106796, (Дата обращения: 04.09.2025).
[viii] Shen Sheng, “Australian Media Raises Alarm Over US Antarctic Science Cuts Amid China-Russia Expansion; Expert Cautions Against ‘Unhealthy’ Anxiety Undermines Global Collaboration”, Global Times, https://www.globaltimes.cn/page/202508/1340559.shtml, (Дата обращения: 04.09.2025).
[ix] Brandon J. Weichert, “Did Russia Just Strike Oil in Antarctica?”, The National Interest, https://nationalinterest.org/blog/buzz/did-russia-just-strike-oil-antarctica-bw-090325, (Дата обращения: 04.09.2025).