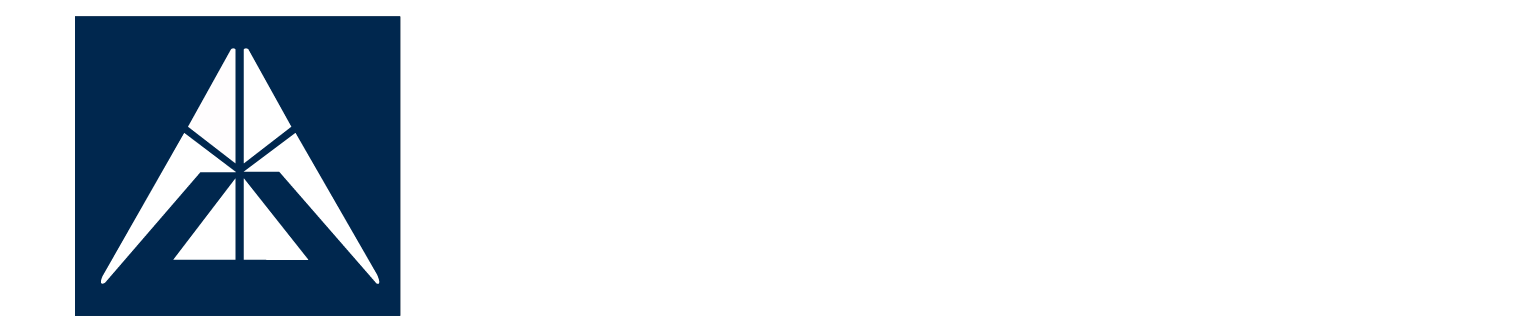В литературе по международным отношениям, особенно со второй половины XX века, начали подвергаться сомнению принципы абсолютной суверенитета государства. Хотя реалистическая теория позиционирует государство как основного участника международной системы, либеральные и неомарксистские подходы обращают внимание на растущую роль негосударственных субъектов, в частности транснациональных корпораций. В настоящее время эта тенденция стала более заметной, особенно в таких вопросах, как энергетическая безопасность, изменение климата и инвестиции в высокие технологии.[1] Такая область, как атомная энергетика, требующая высоких технологий и капиталовложений, традиционно развивалась под контролем государства. Однако в XXI веке эта картина начала меняться. Многие транснациональные технологические компании, в первую очередь базирующиеся в Соединенных Штатах Америки (США) (например, Microsoft, Meta, Google), начали напрямую инвестировать в атомную энергетику и со временем стали не только экономическими, но и геостратегическими игроками.[2]
Ядерная энергия начала интегрироваться в международную энергетическую систему с вводом в эксплуатацию первых коммерческих реакторов в 1950-х годах. Сегодня около 440 реакторов обеспечивают примерно 9% мирового производства электроэнергии. Что еще более важно, ядерная энергия стала стратегическим инструментом в борьбе с изменением климата, обеспечивая примерно четверть производства энергии с низким уровнем выбросов углерода.[3]
Ядерная технология основана на контроле энергии, получаемой в результате деления атомных ядер таких элементов, как уран и торий. Эта технология была впервые разработана в военных целях во время Второй мировой войны, однако с 1950-х годов на первый план вышло ее мирное использование. В международной литературе подход Джозефа Найя «сложная взаимозависимость» объясняет, как ядерная энергия стала инструментом не только для производства энергии, но и для дипломатического и стратегического сотрудничества.
На сегодняшний день гражданские атомные электростанции, действующие в 31 стране, с общим опытом эксплуатации около 20 000 реактор-лет, стали одним из основных элементов глобальной энергетической безопасности. Кроме того, многие страны, в первую очередь европейские, потребляют электроэнергию, произведенную на атомных электростанциях, через региональные сети. Это свидетельствует о том, что атомная энергия является источником энергии, оказывающим трансграничное воздействие.[4] С другой стороны, ядерная энергия не ограничивается только производством энергии; она стала незаменимой во многих областях, таких как медицина, промышленность, сельское хозяйство и космические исследования. Это показывает, что ядерные технологии занимают центральное место в устойчивом развитии. Ученые, занимающиеся вопросами ядерной безопасности, такие как Мэтью Банн[5] и Скотт Саган, подчеркивают, что эти технологии сопряжены с серьезной политической ответственностью. С другой стороны, ядерная энергия не ограничивается только производством энергии; она стала незаменимой во многих областях, таких как медицина, промышленность, сельское хозяйство и космические исследования. Это показывает, что ядерные технологии занимают центральное место в устойчивом развитии.
Как подчеркнул Бунн, будущее атомной энергетики – это не только вопрос технических возможностей; оно превращается в область, в которой интегрируются институциональная ответственность, прозрачность и системы безопасности. Банн утверждает, что более глубокое участие частного сектора в этом процессе является необходимым с точки зрения безопасности ядерных материалов; он отмечает, что работа транснациональных компаний, занимающихся строительством атомных электростанций и топливным циклом, в соответствии с международными режимами контроля имеет решающее значение не только для безопасности энергоснабжения, но и для глобальной стабильности.[6]
Кроме того, в работе Сагана (1996) под названием «Почему государства производят ядерное оружие?» стратегические мотивы объясняются на основе трех теоретических осей. Это безопасность, статус и бюрократические процессы. Эта концепция может быть адаптирована и к корпоративным стратегиям инвестирования в ядерную энергетику:[7]
- Безопасность: Государства обеспечивают стратегическую защиту с помощью ядерной энергии. Аналогичным образом, технологические компании гарантируют безопасность энергоснабжения с помощью соглашений о ядерной энергии. Например, долгосрочное соглашение Meta с электростанцией Clinton выполняло стратегическую защитную функцию, обеспечивая бесперебойную работу центров обработки данных.
- Статус: По мнению Сагана, приобретение ядерного оружия обеспечивает социальный престиж. В этом контексте крупные компании, инвестируя в ядерную энергетику, приобрели имидж высокотехнологичных и устойчивых лидеров. Инвестиции Amazon в SMR или партнерство Google в области модульных реакторов являются конкретным проявлением этого стремления к корпоративному статусу.
- Бюрократические процессы: Внутренняя динамика государств показывает влияние бюрократических структур на ядерные проекты. Вхождение частного сектора оказало непосредственное влияние на эту внутреннюю бюрократию, что привело к реорганизации государственных учреждений в рамках государственно-частного партнерства.
С этой точки зрения, создается область, в которой пересекаются национальная стратегия и интересы компаний. Государственно-ориентированный подход Сагана показывает, что сегодня технологические компании также интегрируются в эту систему с аналогичными мотивами. Так, эти компании стали не только поставщиками энергии, но и глобальными игроками, формирующими стратегии, престиж и модели бюрократического управления.
Сегодня, в частности, технологические гиганты, такие как Meta, Amazon, Google и Microsoft, инвестируют в атомные электростанции с целью удовлетворения растущих потребностей в энергии для искусственного интеллекта и центров обработки данных. Meta обязалась с июня 2027 года поставлять 1,1 гигаватта энергии из Центра чистой энергии Клинтона в Иллинойсе, принадлежащего Constellation Energy. В этом отношении она также способствует сохранению ядерной инфраструктуры, содействуя переоформлению лицензии на эксплуатацию объекта.[8]
Эти события заставляют переосмыслить понятие «энергетическая дипломатия». Подход Танненвальда к ядерным нормам отстаивал идею, что ядерные технологии могут использоваться не только для ведения войны, но и как средство мирного развития и обеспечения международной легитимности. Сегодня ориентация технологических гигантов на ядерную энергетику рассматривается не только с точки зрения экологической устойчивости, но и как стратегический выбор с точки зрения геополитического позиционирования.[9]
Вашингтон также предпринял шаги по формированию будущего атомной энергетики. К 2025 году планируется увеличить существующие атомные мощности до 400 гигаватт к 2050 году, при этом приоритет будет отдан технологиям нового поколения, таким как малые модульные реакторы (SMR). Эти цели не только преобразуют производство энергии, но и меняют характер геостратегической конкуренции. Действительно, коммерциализация ядерных технологий и интеграция частного сектора в процессы НИОКР создают уязвимости не только с точки зрения энергетической политики, но и с точки зрения режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Основной риск здесь заключается в создании системы энергетической геополитики, в которой государственный контроль ослаблен, а регулирование определяется лоббистами компаний. В этом случае международный ядерный режим может пережить не только технический, но и нормативный кризис.
В результате деятельность транснациональных компаний в области ядерной энергетики подрывает классическое государственно-центричное понимание международных отношений и создает многоуровневый баланс сил. В этом контексте будущее международной системы зависит не только от рациональных предпочтений государств, но и от технической и политической экосистемы, формируемой в соответствии с экономическими интересами компаний. Такая трансформация не только повлияет на энергетическую политику, но и вызовет необходимость переосмысления таких фундаментальных понятий, как суверенитет, безопасность и международное право. Энергетическая безопасность будущего будет зависеть не только от дипломатических навыков государств, но и от прозрачности и ответственности компаний, а также от построения модели управления, ставящей во главу угла общественные интересы.
[1] “Meta signs 20-year nuclear power deal as tech giants continue AI-driven energy push”, New York Post, https://nypost.com/2025/06/03/business/meta-signs-20-year-nuclear-power-plant-deal-to-power-ai/, (Erişim Tarihi: 04.06.2025).
[2] “Amazon, Google, Meta Among Companies Backing Effort to Triple Nuclear Production”, Investopedia, https://www.investopedia.com/amazon-google-meta-among-companies-backing-effort-to-triple-nuclear-production-11695294, (Erişim Tarihi: 04.06.2025).
[3] “Nuclear Power in the World Today”, World Nuclear Association, https://world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/nuclear-power-in-the-world-today, (Erişim Tarihi: 04.06.2025).
[4] Aynı yer.
[5] “Reducing nuclear dangers”, Science, https://www.science.org/doi/10.1126/science.adr0532, (Erişim Tarihi: 04.06.2025).
[6] Aynı yer.
[7] “Why Do States Build Nuclear Weapons?: Three Models in Search of a Bomb”, JSTOR, https://www.jstor.org/stable/2539273, (Erişim Tarihi: 04.06.2025).
[8] “Meta signs 20-year nuclear power deal as tech giants continue AI-driven energy push”, New York Post, https://nypost.com/2025/06/03/business/meta-signs-20-year-nuclear-power-plant-deal-to-power-ai/, (Erişim Tarihi: 04.06.2025).
[9] “International Norms, Nuclear Taboo, and the Risk of Use of Nuclear Weapons”, VCDNP, https://vcdnp.org/international-norms-nuclear-taboo-and-the-risk-of-use-of-nuclear-weapons, (Erişim Tarihi: 04.06.2025).