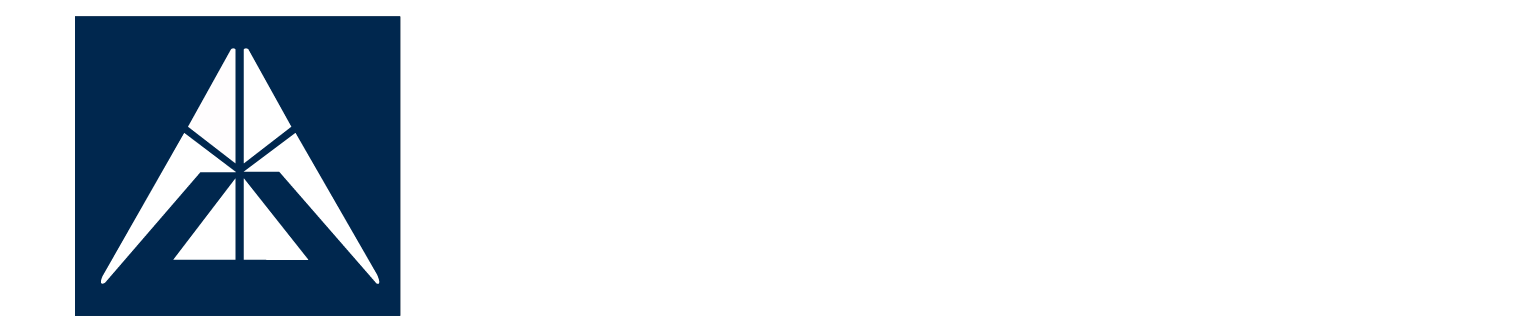После окончания холодной войны Латинская Америка на протяжении длительного времени занимала второстепенное место в повестке внешней политики Вашингтона. Однако в последние годы регион вновь привлёк внимание не только в связи с традиционными проблемами — такими как миграция, наркоторговля и энергетическая безопасность, — но и как новая арена соперничества великих держав. Одним из наиболее наглядных проявлений этой трансформации стала нарастающая военная напряжённость в Карибском бассейне. Увеличение военного присутствия Соединённых Штатов Америки у берегов Венесуэлы отражает не только двусторонние противоречия между двумя странами, но и более широкую тенденцию геополитического перераспределения сил на региональном и глобальном уровнях.
С августа 2025 года Соединённые Штаты Америки разместили в акватории Карибского моря восемь военных кораблей, десять истребителей F-35 и одну атомную подводную лодку. Пентагон охарактеризовал это военное сосредоточение как «часть масштабной операции по борьбе с международной наркоторговлей». Однако степень доверия к данному объяснению в странах Латинской Америки остаётся крайне низкой. В общественном мнении региона преобладает убеждение, что Вашингтон использует эти операции в качестве инструмента укрепления своего влияния и как форму скрытого давления на правительство Венесуэлы.
Заявления министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса отражают глубокую обеспокоенность правительства страны происходящими событиями. Вооружённые силы Венесуэлы усилили проведение прибрежных оборонительных учений, а на кадрах, транслируемых по государственному телевидению, привлекло внимание обучение ополченческих подразделений, оснащённых переносными зенитно-ракетными комплексами российского производства Igla-S. Эти действия можно рассматривать не только как символическую демонстрацию силы, но и как попытку сделать военно-техническое сотрудничество с Россией более заметным, одновременно усилив сдерживающий потенциал страны в условиях растущего внешнего давления.
Соединённые Штаты Америки на протяжении длительного времени стремятся оправдать своё военное присутствие в Венесуэле аргументами «международной безопасности» и «борьбы с наркотрафиком». Однако после появления информации о том, что в ходе операций ВМС США погибли не менее 43 человек и были потоплены десять судов, достоверность этой риторики стала серьёзно ставиться под сомнение. В экспертных кругах международного права всё чаще высказывается мнение, что подобные действия не соответствуют принципу законной самообороны и в некоторых случаях могут приближаться к квалификации «военных преступлений». Таким образом, можно утверждать, что интервенционистская политика Вашингтона находится в серьёзной «серой зоне» с точки зрения норм международного права. Подход США, предполагающий «поддержание порядка» посредством военной силы, традиционно воспринимается с недоверием в латиноамериканских обществах, для которых принцип суверенитета является краеугольным элементом политической идентичности и регионального самосознания.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал военное сосредоточение США в Карибском бассейне как «начало новой вечной войны». Это высказывание отражает не только эмоциональную реакцию, но и идеологическую позицию Каракаса. По мнению Мадуро, несмотря на изменение риторики и аргументов в разные периоды, истинная цель Вашингтона остаётся неизменной — ослабление или свержение независимых, антиамериканских правительств. Такой аргумент усиливает стремление Венесуэлы возродить боливарианское политическое наследие, определяемое как «антиимпериалистическая традиция». Идеологическая рамка, институционализированная в эпоху Уго Чавеса, была направлена на ограничение влияния США в регионе и интеграцию страны в многополярный международный порядок. Однако сегодня правительство Мадуро вынуждено сохранять это наследие в куда менее благоприятных условиях. Страна переживает тяжёлый экономический кризис, нефтедобыча фактически обрушилась, а миллионы венесуэльцев покинули родину. Несмотря на это, власти продолжают рассматривать военное сопротивление как последний рубеж защиты национального суверенитета.
Соединённые Штаты определяют правительство Николаса Мадуро не только как авторитарный режим, но и как «центр международных организованных преступных сетей». Эта риторика стала основным аргументом, оправдывающим экономические санкции Вашингтона и усиление американского военного присутствия в регионе. Однако подобный жёсткий подход вызывает обратный эффект на региональном уровне. Так, Бразилия, хотя и использует осторожную риторику в официальных заявлениях, выражает обеспокоенность последствиями американской политики. Бывший министр иностранных дел Селсу Аморим отметил, что военные интервенции США «могут возродить исторические травмы Южной Америки и создать риск новой поляризации континента». Действительно, каждое военное действие США в Латинской Америке неизбежно вызывает воспоминания о переворотах, интервенциях и секретных операциях XX века. Историческая память — от Никарагуа до Чили, от Кубы до Гватемалы — формирует глубокое недоверие к военным инициативам Вашингтона. Именно поэтому присутствие ВМС США у берегов Венесуэлы воспринимается не просто как мера безопасности, а как историческое предостережение, вписанное в коллективное сознание народов региона.
Ещё одним фактором, усложняющим региональное уравнение, стали заявления группы Estado Mayor Central(EMC) — фракции колумбийской организации ФАРК. EMC объявила, что в случае возможного военного вмешательства США она выступит на стороне Венесуэлы. Это заявление показало, что негосударственные акторы по-прежнему способны формировать сети идеологической солидарности в региональной системе безопасности. Следовательно, кризис вокруг Венесуэлы представляет собой не только межгосударственное противостояние, но и многоуровневую проблему безопасности, в рамках которой происходит возрождение трансграничных идеологических союзов.
Изоляция Венесуэлы от западного мира подтолкнула страну к поиску новых стратегических партнёров. В этом контексте Китай и Россия быстро заполнили образовавшийся вакуум. Китай подписал с государственной нефтяной компанией PDVSA новые инвестиционные соглашения, касающиеся энергетической инфраструктуры, а Россия предоставила техническую поддержку для модернизации оборонных систем страны. Российские военные советники и кубинские специалисты по разведке играют активную роль в процессе реструктуризации вооружённых сил Венесуэлы. Эти события перестраивают геополитическое соперничество в Карибском бассейне не только в плоскости противостояния США и Венесуэлы, но и в более широком контексте треугольника США–Китай–Россия. С точки зрения Вашингтона, военное присутствие США в Карибском регионе теперь направлено не только против правительства Мадуро, но и против растущего влияния Китая и России. Однако подобные шаги, вопреки ожиданиям, усиливают антиамериканские настроения в обществах Латинской Америки. Исторически чувствительные к внешнему вмешательству народы региона воспринимают каждое новое военное учение США не как меру безопасности, а как нарушение своего суверенитета.
Несмотря на то что Венесуэла располагает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, страна сталкивается с серьёзными трудностями в энергетической инфраструктуре из-за коллапса производственных мощностей и санкций США. Тем не менее государства, такие как Китай и Индия, выстраивают с Каракасом косвенные торговые каналы, пытаясь сохранить поток венесуэльской нефти на мировые рынки. Правительство Мадуро рассматривает интеграцию экономики страны в блок БРИКС как стратегию выхода из кризиса. Этот курс свидетельствует о важном структурном сдвиге в экономической модели Латинской Америки. Регион, традиционно зависимый от экспорта в США, доллароцентричной финансовой системы и рецептов МВФ, постепенно ориентируется на многополярную модель экономического сотрудничества. Однако этот переход сопровождается серьёзными издержками. Китайские кредиты и российская военная поддержка оказываются недостаточными для преодоления глубинного экономического кризиса Венесуэлы. Тем не менее подобная поддержка предоставляет правительству Мадуро пусть ограниченное, но жизненно важное «стратегическое пространство для манёвра» в условиях международной изоляции.
Современная военная напряжённость в Карибском бассейне вновь поднимает фундаментальный вопрос о судьбе Латинской Америки: сможет ли регион выйти за пределы статуса арены соперничества великих держав? Сегодня риторика безопасности США, оборонительная позиция Венесуэлы и возрастающее экономическое и военное влияние Китая и России формируют в регионе сложную, многослойную геополитическую картину. Каждый актор стремится отстаивать собственные интересы, и Латинская Америка постепенно превращается в лабораторию нового глобального противостояния. Ситуация в Венесуэле уже не воспринимается как изолированный кризис — она становится микромоделью постгегемонистского мирового порядка. В этих условиях страны Латинской Америки обладают потенциалом выйти из состояния пассивного объекта и сформировать собственное региональное видение. Однако для этого им необходимо выработать общую стратегическую концепцию и переосмыслить понятие независимости — не как историческое наследие, а как современную политическую цель. В противном случае это «тихое напряжение» в Карибском регионе может вновь превратить судьбу Латинской Америки в историю, определяемую внешними вмешательствами и интересами великих держав.