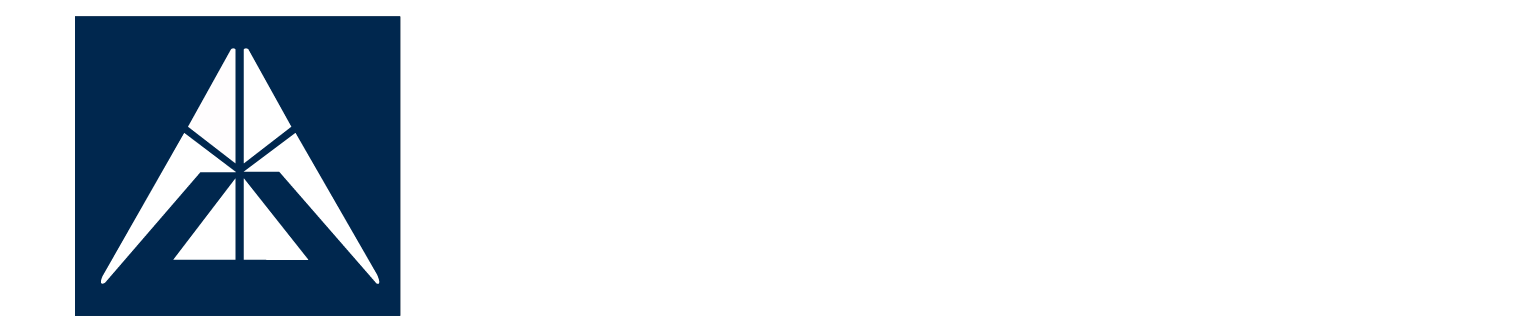Судьба Центральной Азии формируется вокруг рек Амударья и Сырдарья. После распада Советского Союза эти реки утратили значение фактора региональной интеграции и превратились в геополитический разлом, став ядром борьбы за национальный суверенитет. Основная проблема заключается в том, что водный кризис в регионе является не просто следствием нехватки ресурсов, а результатом структурного противоречия, навязанного географическими условиями и усугублённого советским наследием. В основе этого конфликта лежит глубокий раскол, разделяющий страны региона на два противоположных лагеря с прямо противоречащими друг другу интересами.
С одной стороны находятся горные верхние прибрежные государства — Кыргызстан и Таджикистан, которые можно охарактеризовать как «энергетически бедные, но богатые водными ресурсами». Для этих стран реки представляют собой ключ к национальному суверенитету, позволяющий вырабатывать электроэнергию в зимние месяцы при отсутствии собственных углеводородных ресурсов; проекты вроде гигантской Рогунской ГЭС в Таджикистане рассматриваются ими как стратегический козырь. С другой стороны расположены нижние прибрежные государства — Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, «богатые энергией, но бедные водой». Для них те же самые реки являются жизненно важным источником, от которого напрямую зависит сельское хозяйство — основной сектор их экономики, особенно в летний период. Каждый кубометр воды, удерживаемый в верховьях, для этих стран означает потенциальную угрозу продовольственного кризиса. Такое «уравнение одной реки и двух судеб» превратило воду из объекта технического управления ресурсами в вопрос национального выживания и привело к её секьюритизации как элемента государственной безопасности.
Корни водного кризиса в Центральной Азии восходят к противоречивому наследию Советского Союза — стремлению установить абсолютный контроль над природой, что породило непредсказуемый хаос. Это наследие можно рассматривать в двух взаимосвязанных измерениях: как экологический крах, вызванный инженерным высокомерием, направленным на «покорение природы», и как политико-институциональный вакуум, возникший после распада системы этого контроля. Идеал преобразования природы, лежавший в основе сталинистской идеологии, привёл к радикальному вмешательству в гидрологическое равновесие рек Амударья и Сырдарья. «Трубопроводные мечты» (pipe dreams)[i], как назвала эту утопическую фантазию Майя Петерсон, фактически заложили в залог экологическое и политическое будущее региона. Физическим воплощением этих иллюзий стало масштабное перенаправление водных потоков в пустынные районы посредством гигантских оросительных каналов, проложенных в основном по необлицованной и неухоженной почве, что в конечном итоге ускорило деградацию окружающей среды.
Из-за утечек и испарения в примитивной инфраструктуре от 40 до 60 процентов воды, забираемой в оросительные каналы, терялись ещё до того,[ii] как достигали сельскохозяйственных угодий. Результатом стала экологическая катастрофа — высыхание Аральского моря, некогда четвёртого по величине озера в мире, превратившегося фактически в токсичную свалку. На его месте осталась новая пустыня под названием Аралкум, с высохшего дна которой ежегодно ветрами поднимается и переносится более 43 миллионов тонн ядовитых солей и агрохимикатов.[iii]
Более важно то, что распад Советского Союза в 1991 году ознаменовал конец централизованной системы управления, обеспечивавшей обмен энергией зимой и водой для сельского хозяйства летом. После краха этого механизма контроля, для восполнения возникшего институционального вакуума были созданы структуры вроде Межгосударственной координационной комиссии по трансграничным водным ресурсам (ICWC). Однако они оказались неэффективными в условиях усилившихся национальных амбиций и атмосферы глубокой взаимной недоверчивости. Недоверие привело к тому, что республики постоянно обвиняли друг друга в превышении установленных квот и «краже воды».[iv] В результате Советский Союз оставил после себя в этом регионе не только экологическую катастрофу, вызванную необратимым нарушением природного баланса, но и политический вакуум, лишённый механизмов институционального сотрудничества, способных управлять этим наследием. Современные гидрополитические напряжения в Центральной Азии формируются именно на этом двойственном наследии — экологического краха и институциональной дезинтеграции.
После распада Советского Союза водный кризис в Центральной Азии превратился в многоуровневый структурный кризис, в основе которого лежат давление, обусловленное изменением климата, борьба государств за гидрогегемонию и хроническая неэффективность сельского хозяйства. Наиболее определяющим и долгосрочным фактором этого кризиса является влияние глобального изменения климата на горные ледники, составляющие основу водных ресурсов региона. Повышение региональных температур в краткосрочной перспективе ускоряет таяние ледников, создавая иллюзию водного изобилия, однако в долгосрочной перспективе этот процесс приведёт к истощению жизненно важных «водных башен» Центральной Азии.
Эксперты отмечают, что ускоренное отступление ледников несёт в себе потенциал для резкого сокращения объёмов стока в будущем и делает режим водных потоков непредсказуемым.[v] Вторым ключевым фактором является распад централизованной советской системы, что привело к разрушению хрупкого баланса водно-энергетического обмена. Сосредоточение верхних прибрежных государств на строительстве масштабных гидроэнергетических проектов в целях достижения собственной энергетической независимости создаёт риск нарушения водных потоков, необходимых нижним прибрежным странам в период летнего сельскохозяйственного сезона.[vi] После обретения независимости заключённые соглашения об обмене водой и энергией потерпели крах из-за хронической ненадёжности поставок электроэнергии; в результате этого недоверия сформировался опасный цикл «взаимных ответных мер», усугубляющий межгосударственную напряжённость.
Энергетически дефицитные верхние прибрежные государства, сталкиваясь с перебоями в поставках энергии, начали компенсировать их, сбрасывая больше воды через гидроэлектростанции в зимние месяцы. Эти действия вызывали разрушительные зимние наводнения в нижних течениях, одновременно критически сокращая объёмы воды, доступной для орошения летом. Подобная практика породила цикл, в котором водные ресурсы стали рассматриваться как дипломатический рычаг и фактическое «оружие».[vii] Наконец, самой фундаментальной, но наименее заметной гранью кризиса остаётся колоссальное расточительство воды в сельском хозяйстве. Орошаемое земледелие, являющееся главным потребителем воды в Центральной Азии, использует около 90 % забираемой из рек воды, при этом из-за устаревших оросительных систем и неэффективных методов орошения от 40 % до 60 % воды теряется, не доходя до полей.[viii] Эта хроническая утечка связывает водный дефицит с технологической отсталостью и управленческой халатностью, превращая проблему в устойчивый системный кризис.
Современный хрупкий гидрополитический баланс Центральной Азии сталкивается с риском фундаментального подрыва под воздействием нового и непредсказуемого геополитического шока, исходящего с юга. Этот риск материализуется в виде проекта ирригационного канала Кош-Тепа протяжённостью 285 километров, который стремительно реализуется властями Талибана.[ix] Данный масштабный проект предполагает одностороннее перенаправление от 20 % до 30 % общего стока реки Амударьи. Подобный шаг представляет потенциальную катастрофу для нижерасположенных прибрежных государств — Узбекистана и Туркменистана, которые и без того используют значительную часть своих водных ресурсов в сельском хозяйстве. Согласно экспертным оценкам, после завершения строительства канала объём воды, поступающей из Амударьи в Туркменистан, может сократиться до 80 %.[x] Наибольшую опасность представляет то обстоятельство, что Афганистан не является участником ни одного из действующих соглашений о распределении водных ресурсов, что серьёзно осложняет возможность международных переговоров и координации по данному вопросу.[xi]
Эти внутренние динамики пересекаются с геополитическим уравнением, в которое вовлечены как глобальные, так и региональные державы. В рамках инициативы «Пояс и путь» Китай стремительно расширил своё экономическое влияние в регионе, превратившись в ключевого игрока гидрополитического баланса.[xii]Отвлечённость России на войну в Украине породила вакуум силы, тогда как западные акторы — Соединённые Штаты, Европейский союз и международные финансовые институты (МФИ) — активизировали взаимодействие с регионом, стремясь уравновесить влияние Москвы и Пекина. Несмотря на то, что МФИ инвестируют в модернизацию систем распределения воды, аналитические оценки указывают на ограниченность такого подхода, поскольку он сосредоточен преимущественно на технических решениях (ремонт инфраструктуры). Эксперты предупреждают, что эффективность подобных мер останется ограниченной, если они не будут сопровождаться политическими реформами, включающими усиление прозрачности, подотчётности и создание действенных механизмов контроля и ответственности.[xiii]
Центральная Азия находится на историческом перепутье. Странам региона предстоит сделать выбор — либо, оставаясь в плену у наследия нулевой суммы, доставшегося от Советского Союза, они придут к общей водной катастрофе, либо сумеют выстроить интегрированный региональный порядок. Корни кризиса лежат не в простой нехватке ресурсов, а в структурном противоречии между энергетической безопасностью верхних прибрежных государств и продовольственной безопасностью нижних. Геополитические потрясения, подобные проекту канала Кош-Тепа, нарушающему этот хрупкий баланс, наглядно демонстрируют критическую необходимость выработки срочного стратегического видения для предотвращения необратимых последствий.
Преобразование данного кризиса в возможность требует многоуровневого подхода с приоритетом на развитие гидродипломатии. Прежде всего необходимо управление неотложными рисками и создание атмосферы доверия. В условиях слабости региональных институтов примером могут служить двусторонние соглашения, заключённые между Туркменистаном и Узбекистаном, которые предусматривают проведение «независимой международной экспертизы» крупных проектов. В управлении кризисом, связанным с каналом Кош-Тепа, вместо изоляции Афганистана следует выстраивать канал «дипломатии в обмен на ресурсы», предусматривающий предложение стране энергетической и продовольственной помощи в обмен на согласованные меры водного управления и обмен данными. Во-вторых, необходимо устранить структурное противоречие, лежащее в основе кризиса; это возможно лишь путём трансформации отношений между водой и энергией из «антагонистических» в «партнёрские».
Вместо бартерных соглашений, основанных на недоверии, необходимо создание прозрачной, надёжной и рыночно ориентированной региональной интегрированной энергетической сети. Такая стратегия позволит устранить структурную зависимость, вынуждающую верхние прибрежные государства удерживать воду зимой для выработки электроэнергии. Кроме того, эту меру следует дополнить борьбой с другим системным компонентом кризиса — масштабным расточительством воды в сельском хозяйстве. Решение должно включать не только модернизацию инфраструктуры, но и проведение всеобъемлющей аграрной реформы, предусматривающей внедрение адекватных механизмов ценообразования. Повышение эффективности водопользования в сельском хозяйстве, которое потребляет около 90 % водных ресурсов региона, способно создать больше «новых» водных источников, чем все проекты строительства плотин, взятые вместе.
Наконец, для обеспечения долгосрочной стабильности необходимо сформировать устойчивую институциональную архитектуру. Такие малоэффективные структуры, как Межгосударственная координационная комиссия по трансграничным водным ресурсам (ICWC), должны быть преобразованы в многоотраслевые механизмы, включающие не только гидротехнических специалистов, но и экспертов в области энергетики, сельского хозяйства, финансов и экологии. В этом процессе внешние акторы также должны сыграть решающую роль. Международные доноры, включая США и Европейский союз, должны выйти за рамки технической помощи и увязать выделение части внешнего финансирования с достижением конкретных результатов в институциональных сферах — таких как реформа ICWC, повышение прозрачности и подотчётности. В итоге водный кризис Центральной Азии представляет собой не столько проблему ресурсов, сколько дефицит политического видения и воли к сотрудничеству. Регион стоит перед выбором: либо утонуть в конфликтных водах советского наследия, либо построить интегрированный бассейн общего будущего.
[i] Peterson, Maya K. Pipe Dreams: Water and Empire in Central Asia’s Aral Sea Basin. Cambridge: Cambridge University Press, 2019, p. 22.
[ii] Dukhovny, Viktor A., Joop L.G. de Schutter ve Viktor Abramovich. Water in Central Asia: Past, Present, Future. Boca Raton: CRC Press, 2011, p.9.
[iii] “Acting on an environmental health disaster: the case of the Aral Sea.”, Environmental Health Perspectives, https://ehp.niehs.nih.gov/doi/pdf/10.1289/ehp.01109547, (Дата доступа: 22.10.2025).
[iv] International Crisis Group. “Central Asia: Water and Conflict”. Europe & Central Asia Report, No. 034, 2002.
[v]Rahimov, Sulton. “Climate change and its impact on water resources in Central Asia”. DOCUMENTOS CIDOB ASIA, No. 25, 2009.
[vi] Menga, Filippo. Power and Water in Central Asia. London: Routledge, 2017, p. 19
[vii] International Crisis Group. “Central Asia: Water and Conflict”. Europe & Central Asia Report, No. 034, 2002.
[viii] Dukhovny, a.g.e, p.9.
[ix]“The Qosh Tepa Canal: Source of Possible Regional Tension”, NUS Institute of South Asian Studies (ISAS), https://www.isas.nus.edu.sg/papers/the-qosh-tepa-canal-source-of-possible-regional-tension/, (Дата доступа: 22.10.2025).
[x]“Qosh Tepa Canal Sparks Concerns in Central Asia”, The Times Of Central Asia, https://timesca.com/afghanistans-qosh-tepa-canal-sparks-water-security-concerns-in-central-asia/, (Дата доступа: 22.10.2025).
[xi]“Central Asia’s complex water-security diplomacy with the Taliban”, The Strategist, https://www.aspistrategist.org.au/central-asias-complex-water-security-diplomacy-with-the-taliban/, (Дата доступа: 22.10.2025).
[xii]“Full article: Seeing beyond negotiations: the impacts of the Belt and Road on Sino-Kazakh transboundary water management”, Tandfonline, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07900627.2022.2090905, (Дата доступа: 22.10.2025).
[xiii]“WATER IN CENTRAL ASIA: A PROSPECT OF CONFLICT OR COOPERATION?”, Journal of Public and International Affairs, https://jpia.princeton.edu/document/392, (Дата доступа: 22.10.2025).