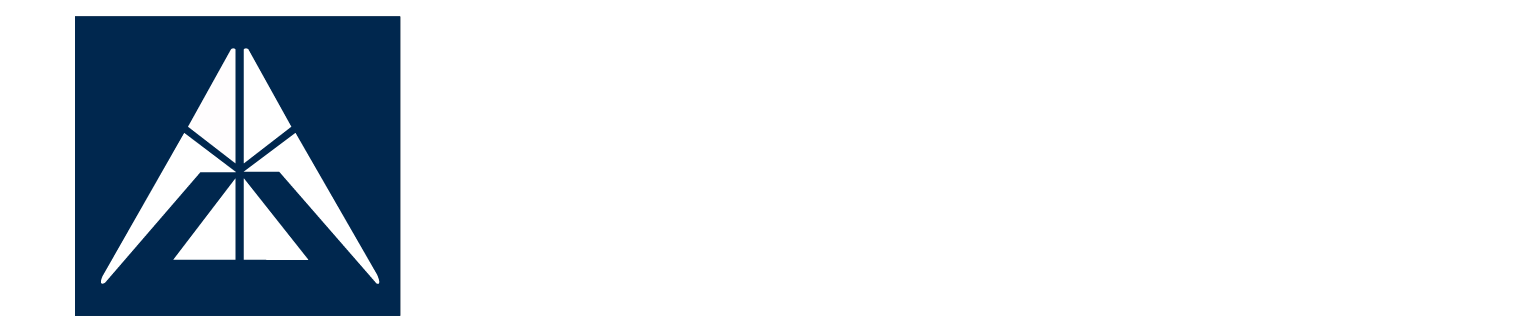С начала XXI века быстро растущее глобальное влияние Китая коренным образом изменило баланс сил в международной системе и поставило Европейский союз (ЕС) перед стратегической дилеммой: с одной стороны — необходимость защищать свои экономические интересы, с другой — стремление к геополитической автономии. С одной стороны, ЕС стремится поддерживать экономические отношения с Китаем, который является его вторым по величине торговым партнером, с другой — определяет его как «системного конкурента» и предпринимает шаги по снижению своей стратегической зависимости. Данная ситуация создает сложную картину, в которой в внешней политике ЕС переплетаются реалистичные динамики баланса сил, неолиберальное понимание взаимозависимости и конструктивистское нормативное формирование идентичности.
В особенности концепция «Европейской стратегической автономии» (ЕСА) приобрела институциональный характер благодаря таким документам, как Лиссабонский договор и «Стратегический компас», а в риторике президента Франции Эммануэля Макрона она стала символом стремления Европы быть независимым актором не только в сфере обороны, но также в экономике, технологиях и внешней политике, основанной на ценностях. После начала российско-украинской войны стратегическое переориентирование Соединённых Штатов Америки (США) на Азиатско-Тихоокеанский регион вновь активизировало дискуссии об автономии в Европе и укрепило риторику о «Европе, стоящей на собственных ногах».
Рост Китая оказал заметное влияние на Европу, особенно в экономической, технологической и геоэкономической сферах. К 2024 году Китай стал крупнейшим импортным партнером ЕС, что привело к торговому дефициту в размере около 305 миллиардов евро. Большая часть этого дефицита обусловлена сильной зависимостью европейской промышленности от промежуточных товаров китайского производства. Промышленные товары, составляющие %96 импорта, демонстрируют, насколько центральное место занимает Китай в европейских цепочках поставок. Однако в рамках Закона о промышленной устойчивости Европы, вступившего в силу в 2025 году, были определены цели по стимулированию местного производства и стратегической диверсификации в критических секторах, что свидетельствует о намерении постепенно снизить зависимость от Китая. Вместе с тем, ограничения, введенные в отношении китайских поставщиков, таких как Huawei и ZTE, в сфере инфраструктуры 5G отражают сохраняющиеся опасения в области технологической безопасности. Кроме того, аналогичный подход стратегической осторожности наблюдается и в таких секторах нового поколения, как искусственный интеллект, производство полупроводниковых чипов и технологии зеленой энергии. Контроль Китая над редкоземельными элементами по-прежнему остается серьезным фактором уязвимости для целей Европы в области «зеленой» и цифровой трансформации.
В геоэкономическом плане инвестиции Китая в портовую, железнодорожную и энергетическую инфраструктуру на европейском континенте в рамках инициативы «Пояс и путь» (BRI) усилили влияние Китая в стратегическом окружении ЕС. В частности, такие примеры, как порт Пирей, демонстрируют, что Китай углубляет свои точки входа на европейский рынок и с помощью этих инвестиций увеличивает свою политическую влиятельность. В ответ на это ЕС разработал ряд политических инструментов, сосредоточившись на стратегии «снижения рисков» — таких как Закон о критически важных сырьевых материалах, «Кибербезопасностный ящик» для 5G и Инструмент против принуждения (ACI). Эта рамочная политика направлена не на экономическое разъединение, а на управление стратегической зависимостью. Однако эти усилия часто не достигают внутренней согласованности из-за различий в национальных интересах стран-членов.
Действительно, одной из самых больших трудностей в политике ЕС в отношении Китая является невозможность выработать общую стратегическую линию между государствами-членами. Германия, из-за высокой зависимости от автомобильной и машиностроительной промышленности, придерживается принципа «не разделения, а снижения рисков», в то время как Франция, следуя более идеологической линии, выдвигает на первый план европейский оборонный потенциал и усиливает риторику стратегической автономии. Решение Италии выйти из BRI в конце 2023 года было расценено как символический поворот в Европе. Однако Рим, пытаясь восстановить баланс в отношениях с Вашингтоном, не разорвал полностью экономические связи с Китаем.
Нидерланды, введя лицензионные ограничения на экспорт передовых технологий, реализовали принцип «стратегической избирательной открытости». В то же время такие страны, как Венгрия и Сербия, ослабляют единую позицию ЕС, поддерживая китайские инвестиции, что затрудняет разработку единой внешней политики Союза. В странах Восточной Европы опасения по поводу безопасности, вызванные сближением Китая и России, углубили военное сотрудничество с США и вновь выдвинули на первый план трансатлантические связи. В опубликованном Европейской комиссией в 2025 году докладе «Стратегический обзор отношений ЕС-Китай» эти несогласованности также названы одним из самых серьёзных структурных препятствий на пути к достижению стратегической автономии Союза.
С точки зрения Пекина, стремление Европы к стратегической автономии имеет двоякое значение. Китай рассматривает стремление ЕС к частичной независимости от США как потенциальную возможность для себя в глобальной конкуренции держав. Однако глубина трансатлантических связей и укрепление роли Организации Североатлантического договора (НАТО) после войны в Украине приводят к тому, что стремление к автономии остается ограниченным на практике. По состоянию на 2025 год технологическая конкуренция между США и Китаем ознаменовала начало новой эпохи «геотехнологического размежевания», особенно в таких сферах, как чипы искусственного интеллекта, квантовые вычисления и технологии хранения энергии. Это вынуждает ЕС проводить политику стратегического баланса. Несмотря на институционализацию трансатлантического сотрудничества через Совет по торговле и технологиям США-ЕС, данный процесс одновременно создает глубокое противоречие между целью ЕС по достижению автономии и фактической зависимостью от США. С другой стороны, Китай продолжает придерживаться бескомпромиссной позиции в отношении своих основных интересов, таких как Тайвань, Синьцзян-Уйгурский автономный район и Тибетский автономный район. Это создает постоянную напряженность в отношениях с ЕС, внешняя политика которого основана на ценностях.
В перспективе отношения между ЕС и Китаем, по всей видимости, будут развиваться в рамках трех основных сценариев. Во-первых, речь идёт о прагматической модели, основанной на сотрудничестве в ограниченных сферах: к ним относятся такие направления, как борьба с изменением климата, зелёное финансирование и установление цифровых стандартов. Второй сценарий предполагает усиление конфликтной тенденции в случае кризиса в Тайваньском проливе или Южно-Китайском море и вынужденную координацию действий ЕС с США. Такая ситуация может повлечь за собой высокие экономические издержки. Третий и наиболее вероятный сценарий — это сценарий двойственного баланса, при котором ЕС пытается параллельно поддерживать отношения с США в сфере безопасности и с Китаем в сфере экономики, но в долгосрочной перспективе это может подорвать цель стратегической автономии.
В итоге глобальный подъём Китая представляет для Европейского союза не только экономический или геополитический вызов, но и исторический поворотный момент, в котором ЕС должен заново определить свою глобальную идентичность. Успешное преодоление ЕС этого многомерного тупика зависит не только от диверсификации экономики и развития технологического потенциала, но и от построения общей стратегической культуры. Европа будет приобретать вес на глобальном уровне в той мере, в какой она сможет объединить стремление к стратегической автономии с целью стать эффективным игроком в многополярной системе, а не замыкаться в оборонительной позиции по отношению к Китаю. Восход Китая для Европы можно рассматривать не столько как угрозу, сколько как возможность проверить свои политические возможности и устойчивость в период переопределения глобального порядка.