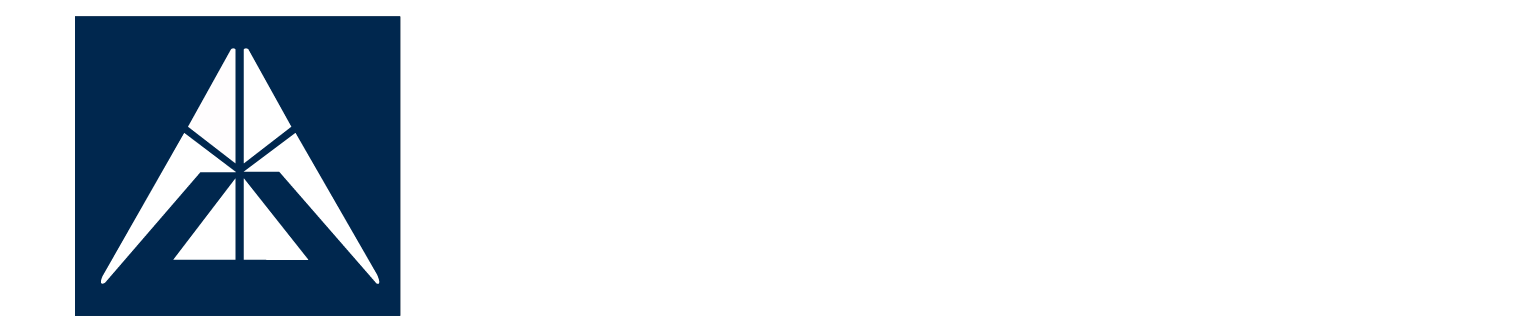С окончанием Холодной войны международная система приобрела однополюсную структуру, в которой Соединённые Штаты Америки (США) поднялись в статус определяющего актера глобального порядка. В этот период США, благодаря своему экономическому и военному превосходству, сыграли нормативную и институциональную ведущую роль в распространении либерально-демократических ценностей и построении архитектуры глобальной безопасности. Однако с начала XXI века гегемонистское превосходство США стало подвергаться сомнению, а начиная особенно с второго десятилетия, международная система продемонстрировала явное движение к многополярной структуре.
Экономический и технологический подъём Китая, военные и политические ревизионистские вызовы со стороны России, а также рост влияния таких региональных держав, как Индия и Бразилия, привели к ослаблению относительной мощи США и стали причиной перестройки существующего порядка. В этом контексте Европейский Союз (ЕС) стремится заново позиционировать себя в глобальной политике как через экономический потенциал, так и через нормативную силу. Благодаря своему экономическому масштабу, объёму общего рынка и регулирующим полномочиям ЕС выступает на первый план в формировании международных норм, укрепляя свою «нормативную силу» через экологическую политику, права человека, стандарты защиты данных и торговые соглашения.
С вступлением в силу Лиссабонского договора в 2009 году внешнеполитические механизмы ЕС были институционально усилены, и особенно через пост Верховного представителя стала более заметной и скоординированной попытка быть глобальным актером. Однако глобальное актерство ЕС, несмотря на его экономический и нормативный потенциал, сталкивается с серьёзными ограничениями. Основная причина этих ограничений заключается в отсутствии военного потенциала, стратегической зависимости от Организации Североатлантического договора (НАТО) и трудностях создания единой геополитической воли, возникающих из-за различий во внешнеполитических приоритетах государств-членов. Это ограничивает способность ЕС вмешиваться в глобальные кризисы, предоставлять гарантии безопасности и укреплять международное влияние. Следовательно, до тех пор пока Союз не сможет дополнить ценностное воздействие военным потенциалом, он остаётся далёк от стратегической автономии. Более того, каждый раз, когда ЕС не способен дать эффективный ответ на кризисы, он теряет возможность укрепить свою роль нормоустанавливающего актера и ослабляет претензии быть независимым центром силы в международной системе.
Сегодня среди ключевых стратегических приоритетов ЕС в изменяющейся международной системе находятся: пересмотр отношений с США, управление сложным взаимодействием с Китаем, которое одновременно включает конкуренцию и сотрудничество, выработка устойчивости против ревизионистских вызовов со стороны России и обеспечение стабильности в ближайшем окружении. В этой связи, хотя трансатлантическая связь сохраняет определяющее значение в архитектуре безопасности, односторонние тенденции, проявившиеся особенно в период администрации Трампа, заставили ЕС усомниться в своей зависимости от США. Несмотря на относительное улучшение отношений при администрации Байдена, постепенное смещение глобальных стратегических приоритетов Вашингтона в сторону Китая усилило дискуссии о «стратегической автономии» в Европе и сделало более очевидной необходимость повышения собственных возможностей и эффективности Союза в международной системе.
В этом контексте Китай для ЕС является одновременно незаменимым экономическим партнёром и «системным соперником» на нормативном и стратегическом уровнях. Так, последствия инициативы «Один пояс, один путь» для европейских рынков и инфраструктурных систем, а также глобальная конкуренция в сфере высоких технологий вынудили Союз вырабатывать более осторожные, критические и уравновешивающие политики в отношении Пекина. В свою очередь аннексия Россией Крыма в 2014 году и полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году вызвали радикальные изменения в восприятии безопасности ЕС. Эти события привели к ускорению стратегий по снижению энергетической зависимости, применению масштабных пакетов санкций и предоставлению Украине беспрецедентной финансовой и военной поддержки. Таким образом, хотя ранее ЕС традиционно держал в тени элементы «жёсткой силы», теперь стремление к ним стало более заметным, а такие многослойные проблемы, как нестабильность на Западных Балканах, Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье и Африке, миграционные потоки, терроризм и энергетическая безопасность, вынудили Союз выстраивать более целостный, эффективный и проактивный дизайн внешней политики.
Способность ЕС быть эффективным актером в глобальном масштабе ограничивается не только внешними факторами, но и его собственными внутренними динамиками. Различия во внешнеполитических приоритетах государств-членов ослабляют общие и быстрые процессы принятия решений. Например, дипломатический и конфликтно-разрешающий подход Франции в Африке и на Ближнем Востоке и ориентированная на экономические интересы политика Германии зачастую не дополняют друг друга, а расходятся, ограничивая способность Союза вырабатывать общую стратегию.
Кроме того, присоединившиеся к Союзу после 2004 года страны Центральной и Восточной Европы, исходя из своего исторического опыта, продвигают более жёсткие, ориентированные на безопасность политики, отличные от сравнительно осторожных и диалоговых подходов стран Западной Европы. Польша и страны Балтии требуют сильного сдерживания и санкций против России, тогда как зависимость Венгрии в энергетике и её прагматичные отношения с Москвой осложняют выработку целостной внешней политики ЕС. Во время войны в Украине эти различия проявились особенно ясно: одни страны требовали более жёстких мер против России, в то время как Венгрия стала фактором, замедлявшим этот процесс.
Аналогичное разнообразие проявляется и во внешней политике ЕС в отношении Ближнего Востока. Особенно в вопросе палестино-израильского конфликта между государствами-членами наблюдаются явные расхождения. Испания и Франция, как правило, выступают за защиту прав палестинского народа, одновременно стараясь сохранить стратегические и экономические отношения с Израилем. В то же время Германия, Венгрия и Чехия занимают более близкую к Израилю позицию, что затрудняет выработку общей позиции ЕС. Кроме того, Польша и некоторые страны Балтии оказывают Израилю сильную дипломатическую поддержку, но осторожно относятся к шагам по признанию Палестины государством. Напротив, такие страны, как Франция, Испания, Ирландия и Бельгия, склонны признавать Палестину государством и занимают более критическую позицию в отношении политики Израиля. Эти противоречивые позиции ограничивают способность ЕС вырабатывать сбалансированную и последовательную политику как в отношении Израиля, так и в отношении Палестины, ослабляя ценностное воздействие Союза на глобальном уровне.
Внутренние различия и это разнообразие также ограничивают эффективность ЕС в управлении кризисами и разрешении конфликтов. Отсутствие военного потенциала и не преодолённые вопросы национального суверенитета в области обороны по-прежнему делают Союз в значительной степени зависимым от НАТО. Например, в палестино-израильском контексте ЕС прилагает усилия по смягчению конфликта дипломатическими и экономическими средствами, однако его способность использовать инструменты «жёсткой силы» или сдерживания самостоятельно ограничена. Следовательно, хотя «стратегическая автономия» обсуждается на теоретическом уровне, на практике она имеет ограниченное выражение из-за различий в политических приоритетах между Западной Европой и новыми государствами-членами, а также из-за прагматичных предпочтений таких стран, как Венгрия и Польша. Эти внутренние несогласованности одновременно ограничивают как стратегическую, так и ценностную способность ЕС и усложняют позиционирование Союза как независимого и убедительного актера в глобальном масштабе.
Продолжающиеся в ЕС дискуссии о демократическом дефиците, прозрачности и верховенстве права несут риск ослабления ценностного влияния Союза и убедительности его внешней политики в глобальном масштабе. Например, нарушения независимости судебной системы и ограничения свободы СМИ, наблюдаемые в последние годы в Польше и Венгрии, затрудняют формирование единого внешнеполитического дискурса ЕС и ограничивают его способность принимать быстрые решения в кризисные моменты. Аналогично, демократические откаты во внутренней политике государств-членов уменьшают способность ЕС реализовывать свои нормативные заявления на практике в сфере внешней политики. Это, в свою очередь, несёт риск ослабления нормативной силы и убедительности ЕС в глобальном масштабе, тогда как усиливающаяся конкуренция США и Китая загоняет Союз в позицию геополитически зажатого актера. Взаимодействие между внутренними несогласованностями и внешними давлениями сужает пространство для независимых манёвров Союза и ставит под сомнение достоверность его претензий на глобальное актерство.Иными словами, в меняющемся мировом порядке претензии ЕС на глобальное актерство сталкиваются с серьёзными вызовами, несмотря на его экономический и нормативный потенциал. Союз, благодаря своей регулирующей силе и нормативному воздействию, получил заметное место в международной политике, однако стремление к стратегической автономии остаётся ограниченным как из-за внешних давлений, так и из-за внутренних ограничений. Структурная зависимость в отношениях с США, двойственная позиция (одновременно сотрудничество и конкуренция) по отношению к Китаю, прямая угроза безопасности со стороны России и нестабильность в ближайшем окружении затрудняют действия ЕС как последовательного и независимого актера в глобальной политике. Кроме того, различия во внешнеполитических приоритетах государств-членов, недостатки в сфере обороны и дискуссии о демократической легитимности выступают основными факторами, препятствующими превращению цели стратегической автономии ЕС в реально сильную и независимую геополитическую способность.
Поэтому для укрепления способности ЕС быть глобальным актером критическое значение имеют некоторые политические шаги. Во-первых, необходимо углубление механизмов Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ) и повышение эффективности путём смягчения правила единогласия в процессах принятия решений. В этом направлении определение минимальных общих позиций между государствами-членами и укрепление потенциала кризисного управления повысят способность Союза действовать целостно. Во-вторых, увеличение инвестиций в военные возможности (например, активизация Постоянного структурированного сотрудничества — PESCO) и углубление интеграции в оборонной промышленности сократят стратегическую зависимость ЕС от НАТО и придадут конкретность цели автономии. В-третьих, усиление институциональной прозрачности и демократической подотчётности обновит доверие граждан ЕС к процессам принятия решений, укрепит нормативную силу Союза и повысит убедительность его внешней политики. Наконец, в условиях глобальной конкуренции ЕС должен чётче определить собственные стратегические интересы и разработать долгосрочное и независимое видение в таких сферах, как энергетическая безопасность, технологическая независимость, управление миграцией и изменение климата, что сделает его более стабильным и эффективным актером на глобальном уровне.
В заключение, претензия ЕС на глобальное актерство сможет усилиться лишь в том случае, если будет сформирован сбалансированный и взаимодополняющий синтез между стратегической автономией и нормативной последовательностью. ЕС, который сумеет интегрировать потенциал «жёсткой силы» со своей нормативной мощью, преодолеть внутренние проблемы согласованности и выработать геополитическое сознание, сможет реализовать свой потенциал в многополярном мировом порядке не только как дополняющий, но и как определяющий и направляющий актер.