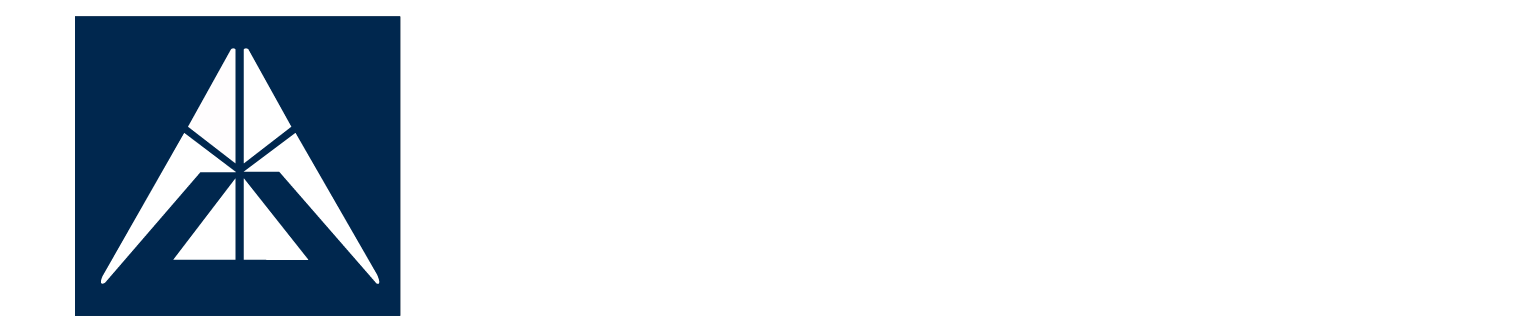С ростом глобализации, цифровизации и мобильности международные сети организованной преступности получили более благоприятные условия для своей деятельности. Среди этих сетей торговля женщинами, нацеленная на наиболее уязвимые группы, сегодня выступает как критическая проблема с точки зрения международной безопасности и прав человека. В борьбе с транснациональной преступностью стратегическую роль играют многосторонние организации полицейского сотрудничества, такие как Интерпол.
В декабре 2024 года в рамках онлайн-операции, проведённой Интерполом совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), были получены важные сведения о сети торговли женщинами на маршруте Латинская Америка – Европа. В ходе операции были выявлены 146 подозреваемых, установлено 68 жертв; с использованием технологий распознавания лиц и цифрового анализа 365 имён пользователей и 162 связи были классифицированы как рискованные данные.[i]
В операции активное участие приняли такие европейские страны, как Германия, Испания и Нидерланды, а также Канада; благодаря обмену цифровыми следами дела расследовались в координации. Эта ситуация демонстрирует, что в борьбе с международной преступностью Интерпол выступает важным мостом между государствами как элемент их внешнеполитических инструментов.
Феминистские исследования в области безопасности подвергают сомнению традиционные представления о безопасности, переопределяя само понятие безопасности с учётом гендерной чувствительности. Этот подход, в частности, анализирует прямое воздействие отношений прибыли и власти на безопасность женщин, предлагая альтернативную рамку восприятия безопасности, ориентированную не только на государство.
Феминистская перспектива связана и с парадигмой человеческой безопасности. Однако этот подход иногда подвергается критике за то, что он ставит государственную безопасность выше безопасности отдельных людей. Например, один из основных документов в борьбе с торговлей людьми – Палермский протокол – критикуется феминистскими теоретиками за то, что рассматривает жертв исключительно в контексте проблемы «безопасности» и отодвигает на второй план аспект прав человека. Эти критические замечания важны, в частности, для того, чтобы не скрывать субъектность женщин-жертв и не исключать мужчин-жертв.[ii]
Феминистский неоаболиционистский подход рассматривает торговлю женщинами не только как категорию преступления, но и как продукт структурной и гендерно обусловленной системы угнетения. В этой рамке женщин не пассивно представляют как «беззащитных жертв», а признают их полноценными субъектами прав человека и призывают к укрепляющей политике.[iii] В этом контексте операции Интерпола можно рассматривать не только как деятельность правоохранительных органов, но и как гендерно-чувствительный и основанный на правах человека инструмент внешней политики государств. Таким образом, при интеграции технических возможностей Интерпола с феминистским подходом к безопасности можно создать более целостную и справедливую основу политики в борьбе с торговлей людьми.
Цифровые операции Интерпола в борьбе с торговлей людьми направлены на защиту жертв и привлечение преступников к ответственности, однако на теоретическом уровне они подвергаются различным критическим оценкам. Феминистские подходы к безопасности, в частности, рассматривают помещение жертв в категорию «беззащитных» как подход, игнорирующий субъектность и активную роль отдельных лиц. В этой связи следует подчеркнуть, что женщины не всегда являются лишь пассивными жертвами, но иногда могут занимать активные роли в преступных организациях; а мужчины также могут быть жертвами торговли людьми. Таким образом, критика направлена на то, что гендерированные представления о безопасности не отражают разнообразие и сложность реальных случаев.
При этом некоторые феминистские теоретики, опираясь на понятие «embedded feminism» («встроенный феминизм»), обращают внимание на то, что государства инструментализируют риторику прав женщин. Согласно этой критике, государства или международные организации, представляя в операционном формате риторику освобождения или защиты женщин, могут скрывать за этой риторикой собственные стратегические или ориентированные на безопасность интересы. В подобных случаях риторика «спасения женщин» может использоваться как инструмент легитимации внешней политики.
Международные операции при поддержке Интерпола также могут рассматриваться в этом контексте. Несмотря на то что они выглядят ориентированными на права человека, когда они превращаются в инструмент внешней политики государств, с точки зрения феминистской критики может возникать новое отношение силового неравенства. Поэтому стратегию операций необходимо переосмысливать таким образом, чтобы она включала как логику безопасности, так и гендерную чувствительность.
Внешнеполитические ориентиры государств могут позиционировать операции Интерпола не только как инструмент борьбы с преступностью, но и как показатель приверженности международным нормам и режимам прав человека. Особенно страны, принявшие принципы феминистской внешней политики (например, Канада и некоторые европейские государства), поддерживают роль Интерпола в борьбе с торговлей женщинами, одновременно подвергая формы этой борьбы феминистской критике. Такой подход предполагает не только ориентированное на результат понимание безопасности, но и этико-политический механизм, основанный на процессе.
В этом контексте Интерпол выступает не только как орган, борющийся с международной преступностью, но и как актор, поддерживающий структурные преобразования, ориентированные на гендерное равенство. Организация в сотрудничестве с государствами-членами поощряет создание гендерно-чувствительных полицейских структур; организует программы наставничества, курсы по лидерству и мероприятия по повышению гендерной осведомлённости. Благодаря этим инициативам Интерпол способствует тому, что феминистские нормы внедряются не только во внешнюю политику, но и во внутренние структуры институтов.
Таким образом, Интерпол может выполнять функцию интерфейса между внешней политикой государств и глобальными гендерными режимами. Эта функция не только повышает легитимность международных вмешательств, основанных на безопасности, но и способствует интеграции феминистской нормативной рамки в институциональные структуры.
Интерпол является важным актором, координирующим транснациональное сотрудничество в борьбе с торговлей женщинами и превращающимся в исполнительное продолжение внешней политики государств. Его операционный потенциал в борьбе с торговлей людьми ценен с точки зрения реализации международных обязательств. Однако феминистские теории безопасности критикуют эти вмешательства за то, что они сводят женщин исключительно к положению «жертв» и делают невидимой их социально-политическую повестку. Кроме того, чрезмерное использование риторики, ориентированной на женщин, может отодвигать на задний план мужчин-жертв или роли женщин-агентов в преступных структурах. Поэтому сотрудничество между Интерполом и принципами феминистской внешней политики должно предполагать не только технические, но и нормативные изменения. Таким образом, безопасность может быть переосмыслена не только с точки зрения государства, но и в плоскости человеческой безопасности. Устойчивый успех в борьбе с торговлей женщинами возможен лишь при таком многомерном и критическом подходе.
[i] “Inside INTERPOL’s Probe into CyberEnabled Human Trafficking”, INTERPOL, December 18, 2024, https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2024/Inside-INTERPOL-s-probe-into-cyber-enabled-human-trafficking, (Дата Доступа: 24.07.2025).
[ii] “Human Security vs. Feminist Security Approaches to Human Trafficking in the Mediterranean”, Atlas Institute, https://atlasinstitute.org/human-security-vs-feminist-security-approaches-to-human-trafficking-in-the-mediterranean, (Дата Доступа: 24.07.2025).
[iii] Laura Rubio Grundell, “The Intersection of Security and Neo-abolitionism in the EU’s Anti-trafficking Policies,”in Security Meets Gender Equality in the EU, Gender and Politics (Cham: Palgrave Macmillan, 2023), https://doi.org/10.1007/978-3-031-12209-5_4.