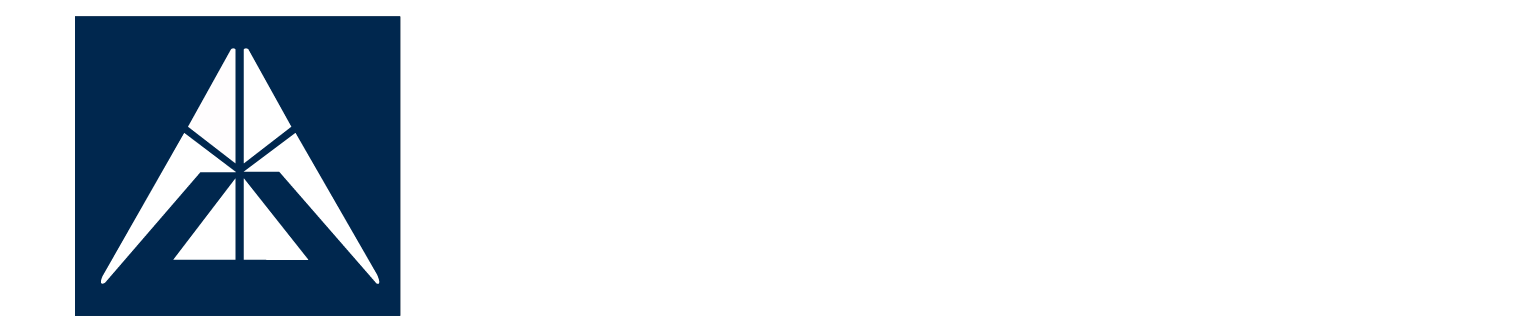В Центральной Азии водная небезопасность перестала быть исключительно экологической проблемой и превратилась в многоуровневый кризис, угрожающий региональной стабильности. Изменение климата, рост населения и разрушение инфраструктуры, унаследованной от советского периода, ослабили устойчивое управление водными ресурсами в странах “C5”, Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Узбекистане и Таджикистане. Распределение трансграничных рек превратило воду в инструмент межгосударственного торга и стратегического давления. Внешние факторы, такие как инвестиции Китая в строительство плотин и реализация Афганистаном проекта “Коштепа Канал (Qosh Tepa Canal)”, поставили водный кризис в центр геополитического соперничества. Сложившаяся ситуация представляет угрозу не только для региона, но и для экологической безопасности и внутренней стабильности России, порождая серьёзные последствия в виде массовой миграции, нарушений баланса “энергия–продовольствие–вода” и переоценки внешнеполитических приоритетов.
Углубляющаяся водная небезопасность в Центральной Азии переросла рамки экологической угрозы и трансформировалась в многоаспектный кризис, подрывающий региональную стабильность. Истощение водных ресурсов из-за изменения климата более не отвечает потребностям растущего населения, а обвалившаяся инфраструктура советской эпохи и отсутствие устойчивых подходов в управлении водами препятствуют разработке структурных решений в странах C5. Дополнительно, напряжённость, возникающая вокруг распределения трансграничных водных путей, превращает воду не только в природный ресурс, но и в геополитический рычаг и средство стратегического давления. В результате, доступ более чем 82 миллионов жителей региона к воде определяется не столько природными факторами, сколько политическими процессами принятия решений и позицией внешних акторов.[1]
Региональные аспекты данного многослойного кризиса стали предметом обсуждения на Форуме ЕАБР 2024 года в контексте осей безопасности в сферах воды, энергии и продовольствия, где они были рассмотрены в рамках целостного подхода международными институтами, банками развития, государственными представителями и экспертами. Тот факт, что сельское хозяйство потребляет около 80% водных ресурсов региона, из которых 40% теряются из-за неэффективности, подчёркивает необходимость перехода к современным цифровым системам мониторинга и эффективным методам орошения. Кроме того, проект канала Коштепа, который должен быть введён в эксплуатацию в 2028 году, имеет потенциал радикально изменить водный баланс Центральной Азии, вызывая тревогу как в экологическом, так и в политическом аспекте.[2] В этом контексте реструктуризация таких региональных институтов, как IFAS, формирование локальных кластеров ирригационных технологий и институционализация трёхсторонних международных соглашений стали насущной необходимостью.
Трёхстороннее соглашение, подписанное между Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном, предусматривающее выделение воды из плотины Бухри Точик для целей сельскохозяйственного орошения, представляет собой не только техническую координацию, но и дипломатический шаг, направленный на предотвращение прошлых конфликтов, связанных с водными ресурсами и границами. Разрушительное наследие советской водной политики, приведшее к высыханию Аральского моря, сегодня пытаются преодолеть посредством двусторонних и многосторонних соглашений, подписываемых на Амударье и Сырдарье. Тем не менее, отсутствие обязательного механизма управления водными ресурсами, охватывающего все страны региона и способного противостоять проектам, инициируемым внешними акторами, таким как канал Коштепа, способствует превращению водного кризиса в более глубокую проблему региональной безопасности.[3]
Эта структурная уязвимость представляет собой угрозу не только на региональном уровне, но и с точки зрения экологической и политической стабильности России. Как подчёркивается в аналитических материалах фонда Jamestown Foundation, усилившийся риск массовой миграции с юга Центральной Азии на север создаёт для Москвы новую брешь в системе национальной безопасности.[4] В этом контексте вновь начали обсуждаться проекты, выдвигавшиеся ещё в советское время, предусматривающие переброску воды из сибирских рек Обь и Иртыш в Центральную Азию. Однако Москва, ссылаясь на собственный водный кризис (снижение уровня рек, засухи и лесные пожары), выступает против подобных предложений и, в отличие от Китая, требует экономической компенсации за возможный экспорт воды.[5]
На данном этапе Москва рассматривает неэффективное управление водными ресурсами в Центральной Азии как основную причину кризиса и отказывается от роли “водного донора” региона. Между тем, растущее влияние Китая и Афганистана, изменяющих русло рек с помощью строительства плотин, создаёт новые геополитические уравнения, способные поколебать влияние России в регионе. Центральноазиатские страны, в случае отказа Москвы от водной помощи, заявляют о возможной миграции миллионов людей на север по экологическим причинам, тем самым оказывая косвенное давление на Кремль. Однако подобная риторика в российских политических кругах периодически воспринимается как “экологический шантаж”, что лишь усугубляет двусторонний кризис доверия.
Технический потенциал и инженерная инфраструктура России содержат важные ресурсы для выработки решений в условиях кризиса. На форуме “Сильные идеи для нового времени”, прошедшем в Москве, Высшая школа экономики России представила проект под названием “Водный потенциал России”, обсуждавшийся также на сессии с участием президента Владимира Путина. В проекте подчёркивается, что Россия обладает около 20% мировых запасов пресной воды, и этот ресурс может быть преобразован в стратегическое экономическое преимущество. Однако для этого необходимо реализовать структурные меры, включая расчёт водного следа продукции, развитие инвестиционных моделей на основе государственно-частного партнёрства и распространение технологий очистки воды.[6]
На местном уровне Россия также предпринимает различные меры в ответ на водный кризис. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что после водного кризиса 2020 года в регионе были реализованы проекты, позволившие существенно сократить потери воды; благодаря вводу в эксплуатацию таких стратегических объектов, как водозаборная станция Белбек, удалось предотвратить возможный дефицит воды в городе.[7] Однако подобные микромеры оказываются недостаточными перед лицом макроэкологических угроз, исходящих из Центральной Азии. Потенциальные волны массовой миграции к востоку от Урала представляют собой не только этнодемографическую, но и внутреннюю политическую угрозу для стабильности Российской Федерации.
Кризис вододефицита перестал быть исключительно экологической проблемой и стал проявлением многомерной геополитической трансформации, непосредственно связанной с энергетической политикой, продовольственной безопасностью и миграционными процессами. Проблемы распределения водных ресурсов в Центральной Азии и осторожная позиция России в этом вопросе способствуют пересмотру регионального баланса сил и расширяют пространство для маневра таких акторов, как Китай. Несвоевременная и недостаточно конструктивная реакция Москвы на данные вызовы не только ослабляет её региональное влияние, но и повышает риск внутренней социальной нестабильности. В этом контексте вода становится для России не просто направляемым ресурсом, а всё более значимым досье в области национальной безопасности, требующим комплексного управления.
Углубляющаяся водная небезопасность в Центральной Азии, воспринимаемая как краткосрочная экологическая угроза, в средне- и долгосрочной перспективе может привести к структурным сдвигам, затрагивающим как региональную архитектуру безопасности, так и глобальное геополитическое равновесие. Изменение климата, рост населения и разрушение водной инфраструктуры, доставшейся в наследство от постсоветского периода, побуждают страны “C5” к принятию срочных и устойчивых мер, тогда как распределение воды между этими государствами приобретает всё более стратегический и конфликтный характер. Параллельно с этим, внешние вмешательства –такие как китайские гидротехнические проекты и афганский канал Коштепа– превращают воду не только в дефицитный ресурс, но и в главный инструмент регионального соперничества. Отказ Москвы от предложений по переброске воды из сибирских рек и её трактовка водного кризиса как не только технической, но и политико-стратегической проблемы, увеличивают вероятность того, что страны региона будут ещё теснее сотрудничать с Китаем и глобальными институтами развития. Как отмечает Jamestown Foundation, неспособность урегулировать водный кризис может привести к волнам массовой миграции из Центральной Азии в Россию, угрожая не только этническому балансу, но и внутренней политической стабильности.
В конечном итоге водная небезопасность в Центральной Азии, в сочетании с изменением климата, ростом населения и распадом инфраструктуры советского наследия, превратилась из экологической проблемы в вопрос геополитической безопасности. Распределение воды между странами “C5” углубляет региональную несогласованность; такие внешние факторы, как проекты плотин Китая и канал Коштепа в Афганистане, ещё больше усложняют проблему. Россия же рассматривает эти события как многоплановый риск, угрожающий как её региональному влиянию, так и внутренней стабильности. В ответ на запрос о переброске воды из сибирских рек Москва ссылается на внутренний водный кризис и экономическую нагрузку, занимая выжидательную позицию. Это расширяет поле влияния таких акторов, как Китай. Если Россия не сможет превратить свой технический потенциал в конструктивное региональное сотрудничество, она может не только утратить влияние в Центральной Азии, но и столкнуться с кризисами безопасности и общественной стабильности к востоку от Урала.
[1] “Water Insecurity in Central Asia”, Atlantic Council, https://www.atlanticcouncil.org/event/report-launch-water-insecurity-in-central-asia/, (Дата обращения: 08.07.2025).
[2] “Water Crisis in Central Asia: from Diagnostic Assessment to Decisive Action”, Eurasian Development Bank, https://eabr.org/en/press/news/water-crisis-in-central-asia-from-diagnostic-assessment-to-decisive-action, (Дата обращения: 08.07.2025).
[3] Genzia Fides, “Strany Tsentralnoy Azii Stremyatsya Sokhranit Vodnyye Resursy”, Check Point, https://check-point.kz/publication?id=6128, (Дата обращения: 08.07.2025).
[4] Paul Goble, “Central Asia’s Water Crisis Becoming Russia’s Problem”, The Jamestown Foundation, https://jamestown.org/program/central-asias-water-crisis-becoming-russias-problem/, (Дата обращения: 08.07.2025).
[5] “Vodnyy Krizis v Tsentralnoy Azii. Vlasti Regiona Vnov Predlagayut Ispolzovat Vodu Sibiri”, Podrobno, https://podrobno.uz/cat/world/vodnyy-krizis-v-tsentralnoy-azii-vlasti-regiona-vnov-predlagayut-ispolzovat-vodu-sibiri/, (Дата обращения: 08.07.2025).
[6] “Issledovateli VSHE Predstavili Proyekt ‘Vodnyy Potentsial Rossii’”, RBK Kompanii, https://companies.rbc.ru/news/DvZ6mdyImG/issledovateli-vshe-predstavili-proekt-vodnyij-potentsial-rossii/, (Дата обращения: 08.07.2025).
[7] “Razvozhayev: Riskov Dlya Vodosnabzheniya Sevastopolya, Nesmotrya na Vesennyuyu Zasukhu, Net”, TASS, https://tass.ru/obschestvo/24395243, (Дата обращения: 08.07.2025).